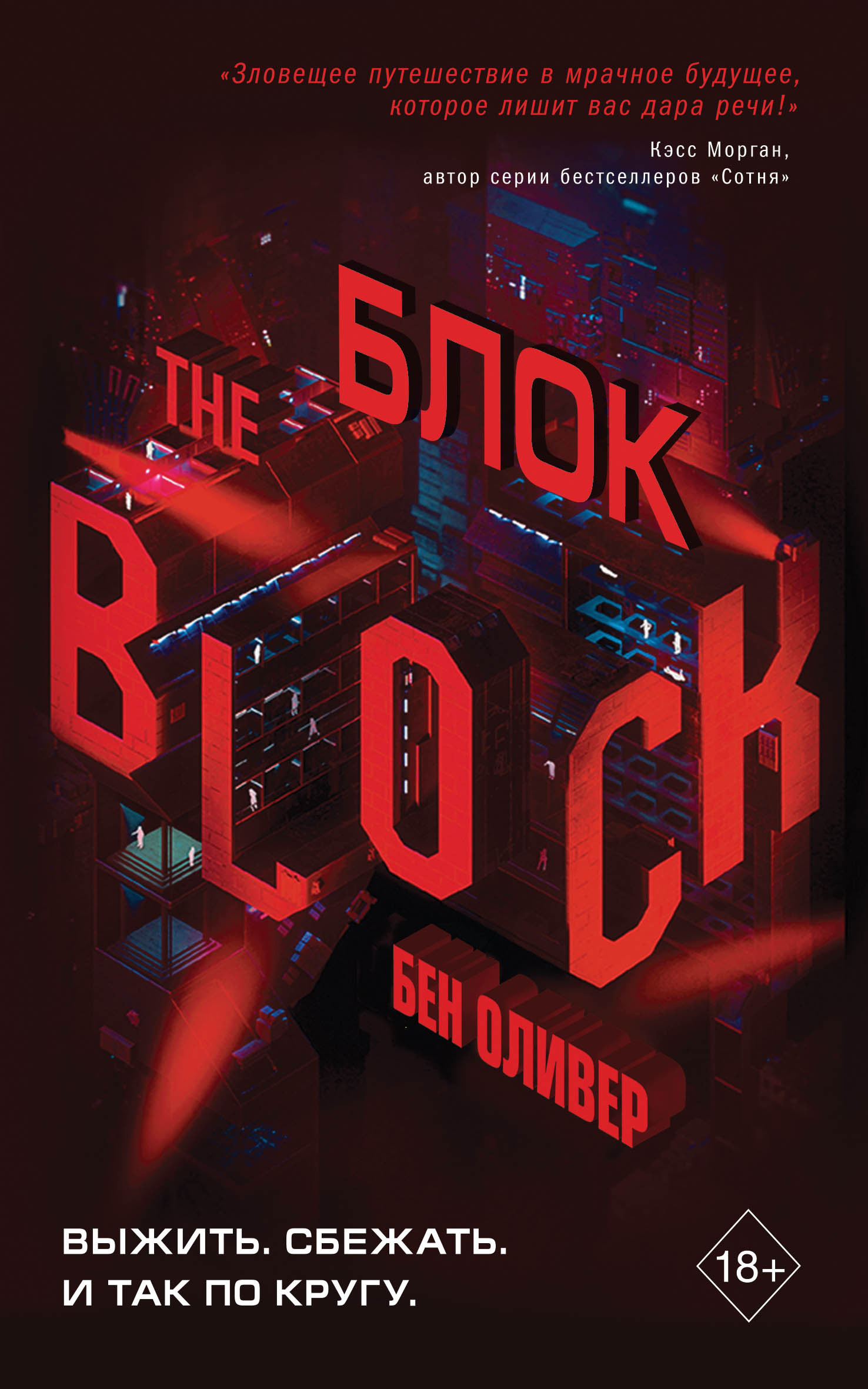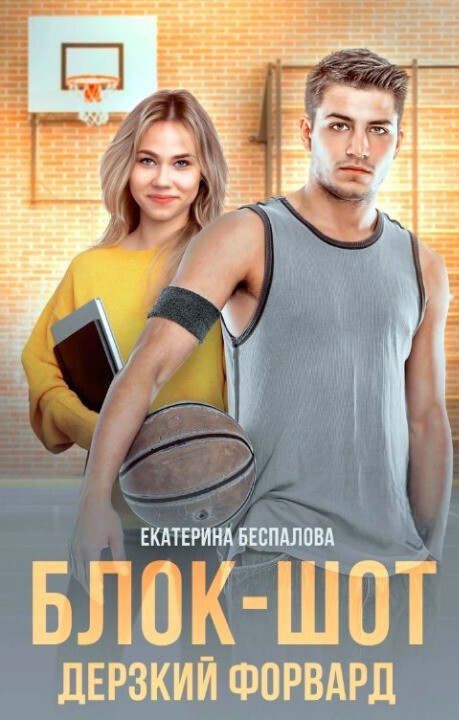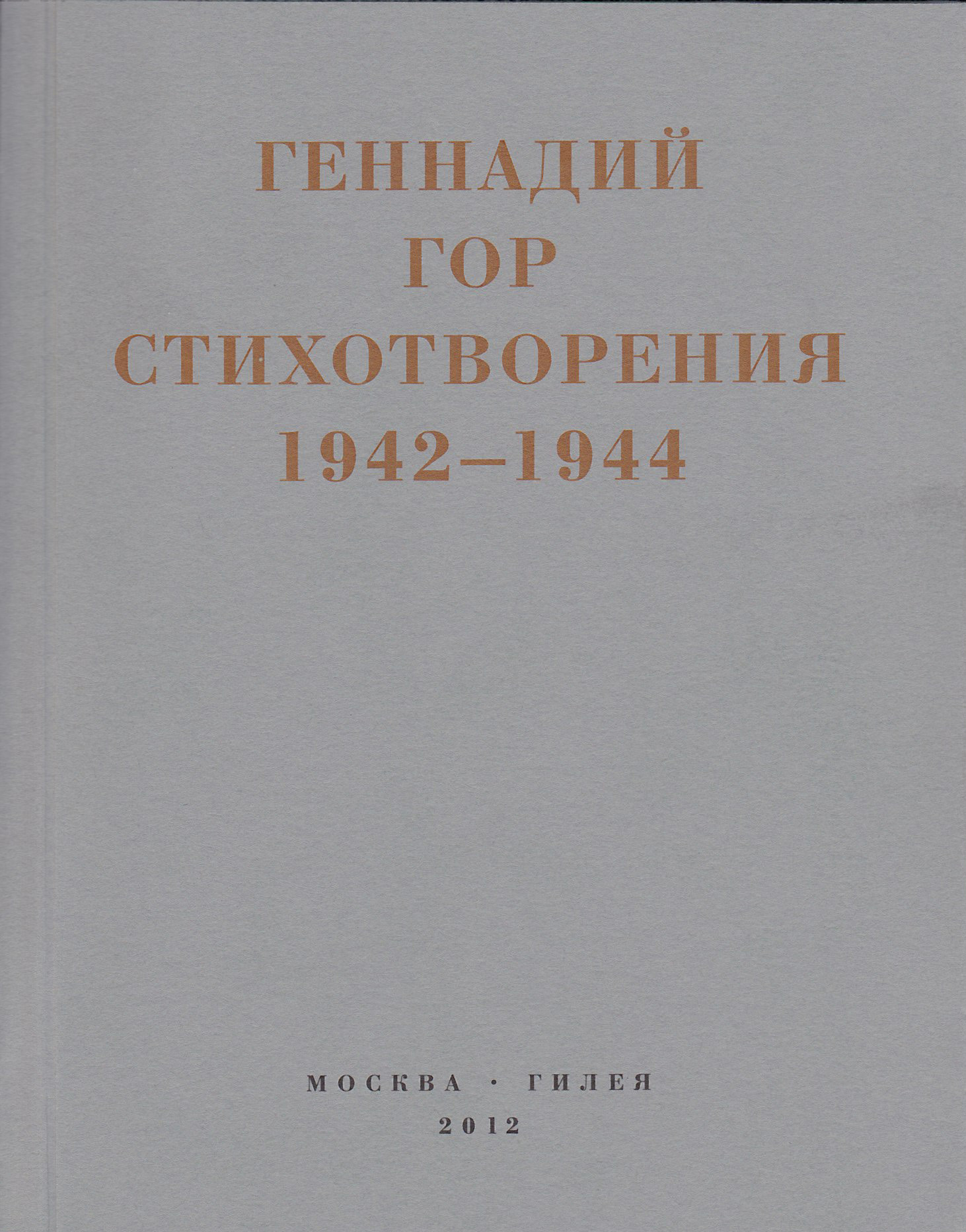Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Постоянным обновлением соборного духа… в форме личного опыта мысли и чувствования…» считал литературу и поэзию выдающийся русский поэт Давид Самойлов. Сгущенно-метафорический стиль поэта соединяет в себе высокое и бытовое; интонационно богатый стих мелодичен, верен классическим традициям. Эта книга – наиболее полное собрание стихотворений Давида Самойлова, в которую включены лучшие стихи из разных сборников поэта. Стихотворения, подвергшиеся цензуре в советское время, восстановлены в первоначальном варианте. Составитель: Андрей Семенович Немзер
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Давид Самойлович Самойлов»: