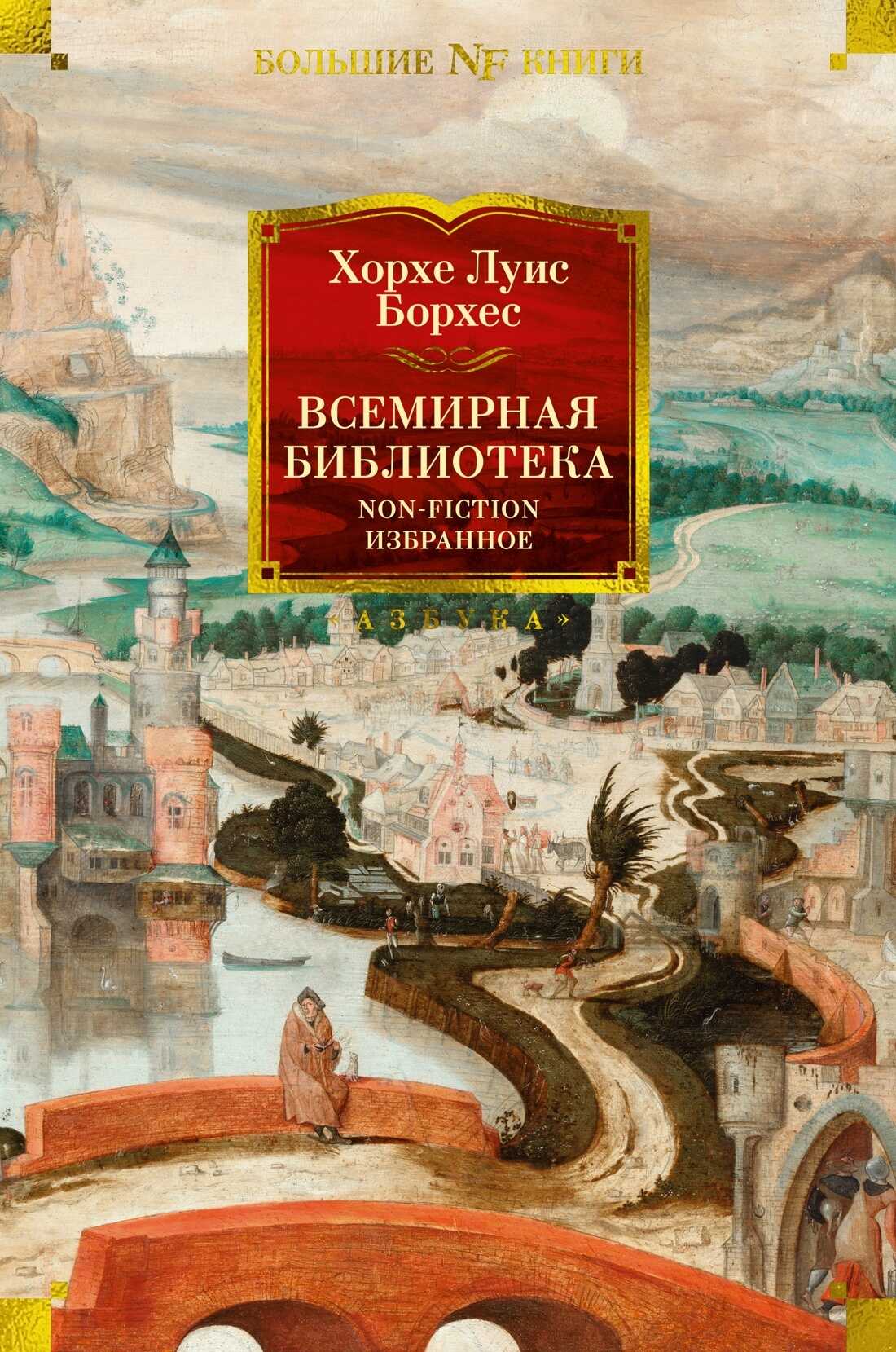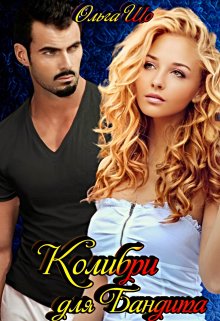Шрифт:
Закладка:
Думая вслух. Семь вечеров - это книга от Хорхе Луиса Борхеса, великого мастера слова и мысли. В этой книге вы найдете семь лекций, которые Борхес прочитал в разные годы в разных странах. В этих лекциях он делился своими размышлениями о таких темах, как книга, время, поэзия, слепота, ночь и другие. Борхес не претендовал на истину или научность, он просто думал вслух, приглашая читателя или слушателя присоединиться к его интеллектуальной игре. В этой игре он использовал свои обширные знания литературы и культуры, свою фантазию и юмор, свою любознательность и скромность.
Думая вслух. Семь вечеров - это книга для тех, кто хочет познакомиться с удивительным миром Борхеса, где все связано и ничто не бывает случайным. Это книга для тех, кто любит слушать умных и интересных людей. Это книга для тех, кто не боится задавать вопросы и искать ответы.