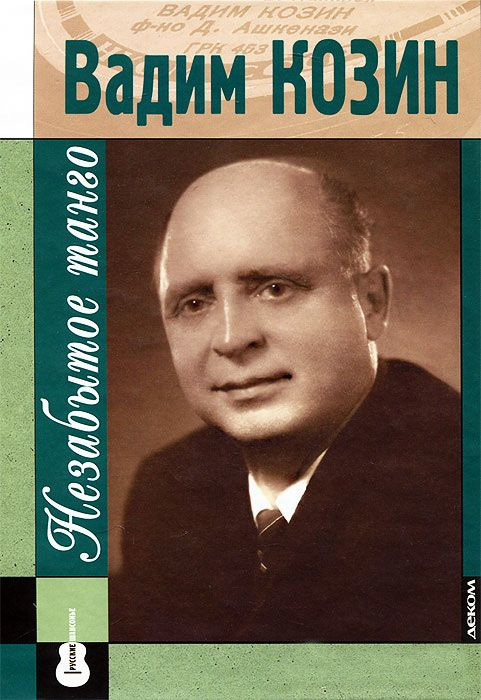Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В этом году мы отмечаем 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского — писателя, которого в нашей стране знают все. И по стихам, и по портретам, и по статьям, и по шуткам… Тем ценнее воспоминания о нём и те статьи, которые сыграли важную роль в жизни писателя — и «ругательные», и восторженные. Эта книга раскрывает извивы и тайны судьбы рыцаря русской литературы, великого сказочника и знатока словесности. Раскрывает его мир.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Коллектив авторов -- Биографии и мемуары»: