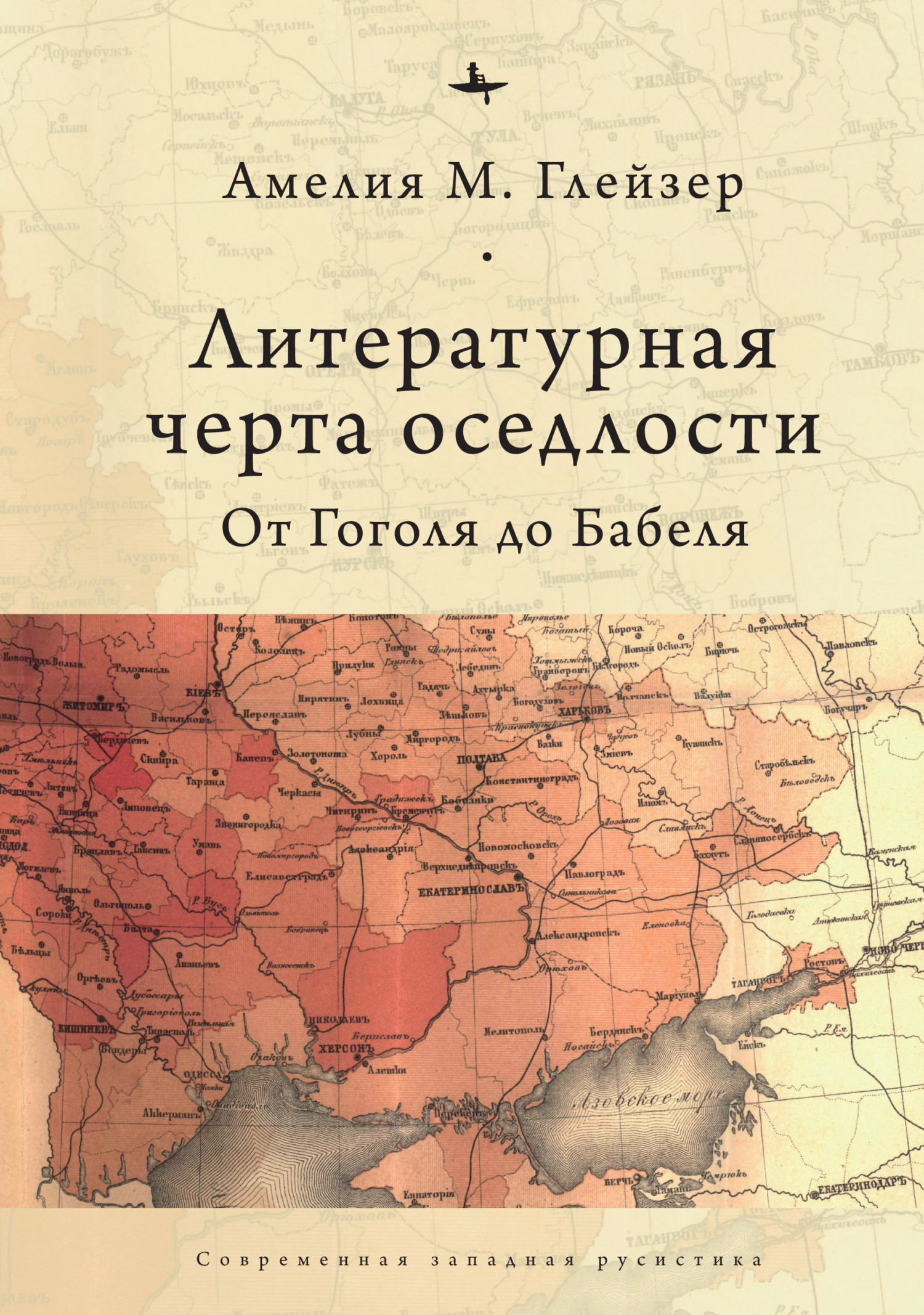Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В этом сборнике опубликованы очерки и статьи, раскрывающие различные стороны деятельности Советского радиовещания в годы Великой Отечественной войны. Среди авторов сборника — видные военные работники, известные писатели, журналисты, деятели искусства, дикторы. В раздел «Страницы радиолетописи» вошли наиболее значительные передачи, выступления у микрофона, важные сообщения, переданные по радио. Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михайл Самойлович Глейзер»: