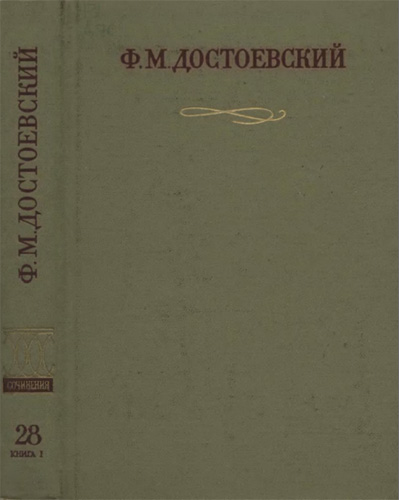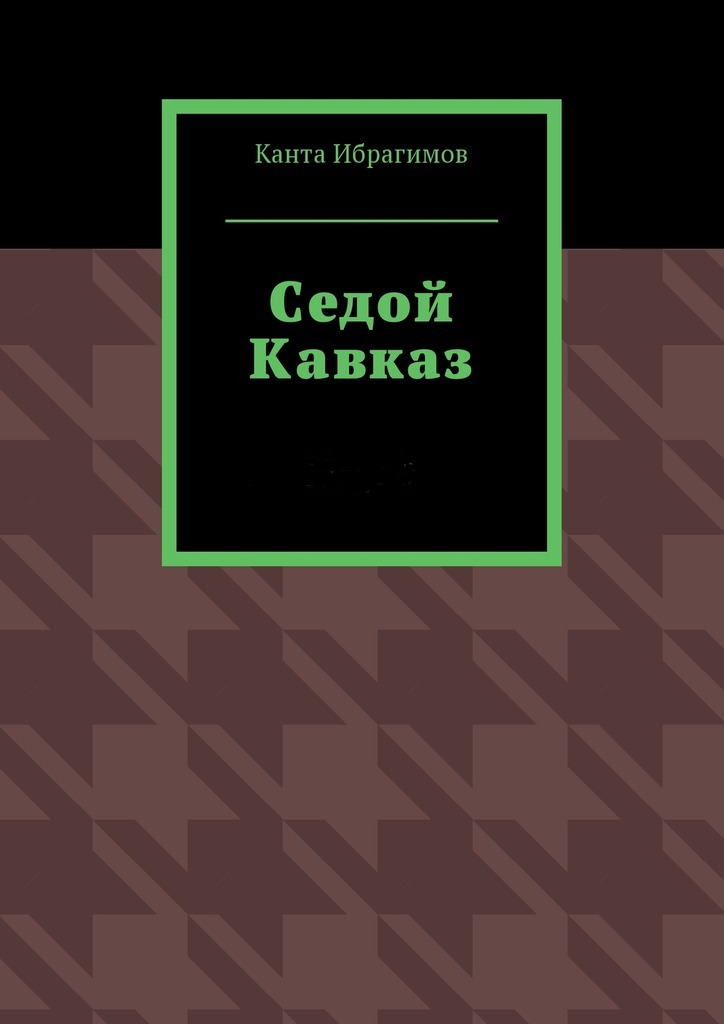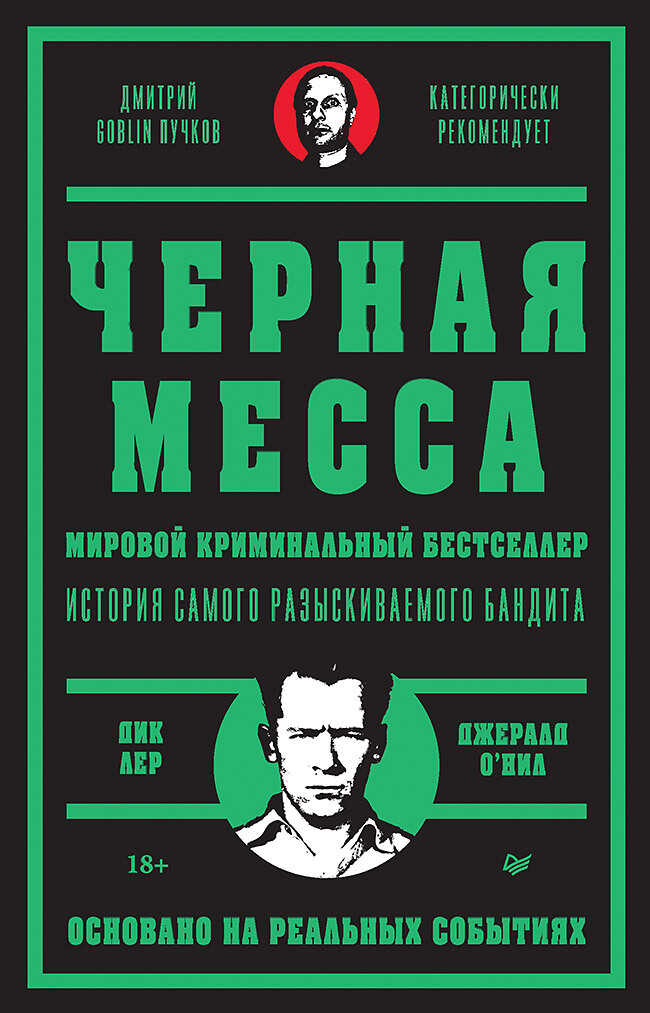Шрифт:
Закладка:
Когда Умберто Эко спросили, с какой женщиной из истории искусства он хотел бы поужинать, он назвал Уту фон Наумбург. Рассказчик этой истории, нобелевский лауреат Гюнтер Грасс, чувствует то же самое. Во время писательского тура по ГДР в конце 1980-х годов он находит ее, самую красивую женщину Средневековья, с одиннадцатью другими фигурами донаторов в Наумбургском соборе. А поскольку на бумаге возможно все, он приглашает всех тех, по чьему подобию художник создал в XIII веке реалистичные скульптуры, отобедать в его саду. Особенно ему нравится девушка, которая была моделью для Уты. В смелом прыжке во времени она предстает перед ним на площадях Кёльна, Милана или Франкфурта. Рассказчик влюбляется в нее так сильно, что следит за ней повсюду и в конце концов даже позволяет использовать себя для выполнения весьма рискованного поручения. Эта история, изначально задуманная как глава для книги «Луковица памяти», была обнаружена в архиве давней сотрудницей Грасса Хильке Оссолинг совсем недавно, но упоминания об этих фигурах были и ранее: на отдельных страницах рукописей в архиве Грасса, в рабочих планах, в группе скульптур в студии, в литографиях. Теперь, уже после смерти автора, эта новелла, проиллюстрированная авторской графикой, увидела свет.