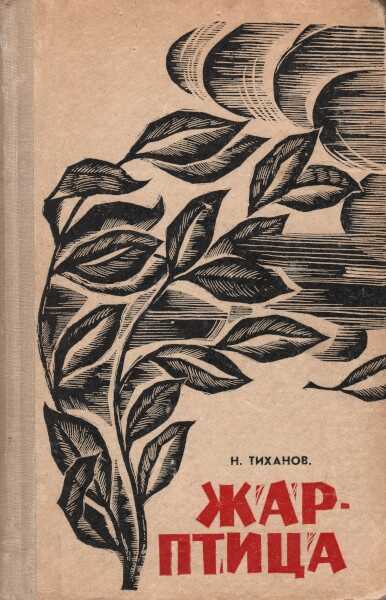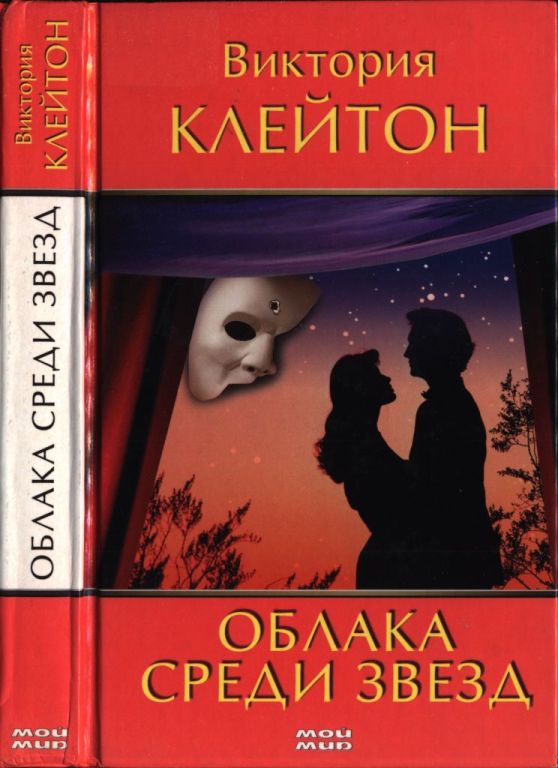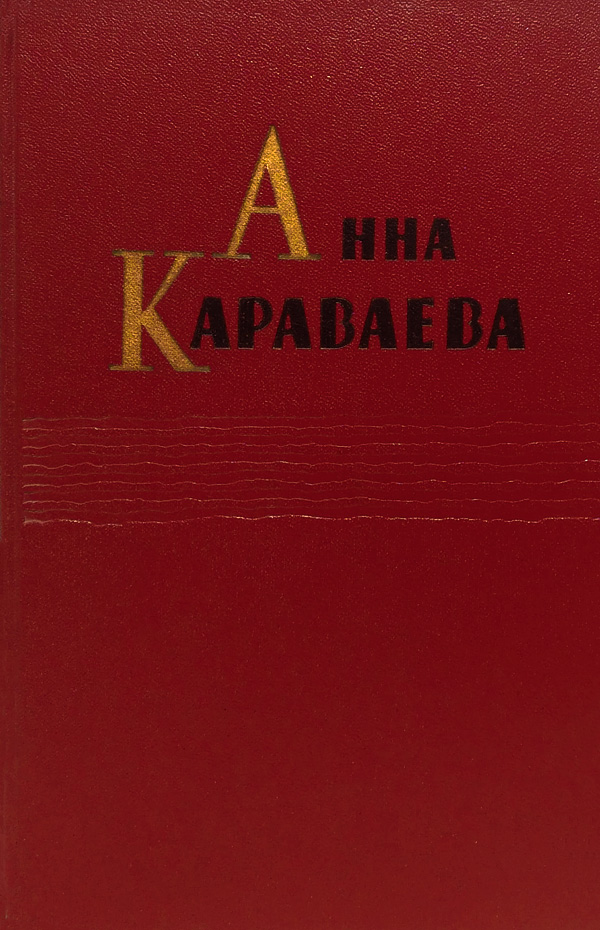Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Повесть «Жар-птица» рассказывает о детстве и юношеских годах деревенского мальчика Коли Куплинова, о его пути в революцию.В жизни Николая встретилось немало трудностей, но люди помогли ему по-новому взглянуть на мир, понять противоречия общественной жизни, помогли найти верную дорогу в новое, прекрасное будущее. И первым таким человеком был дядя Миша — революционер, замученный в тюрьмах и ссылках. К нему, к его теплому, задушевному слову, к его рассказам тянуло мальчика. Этот образ настоящего человека Куплинов пронес через свое детство и юность.Повесть Н. Тиханова автобиографична. Писатель рассказывает о том, что он сам пережил, увидел, прочувствовал.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Кузьмич Тиханов»: