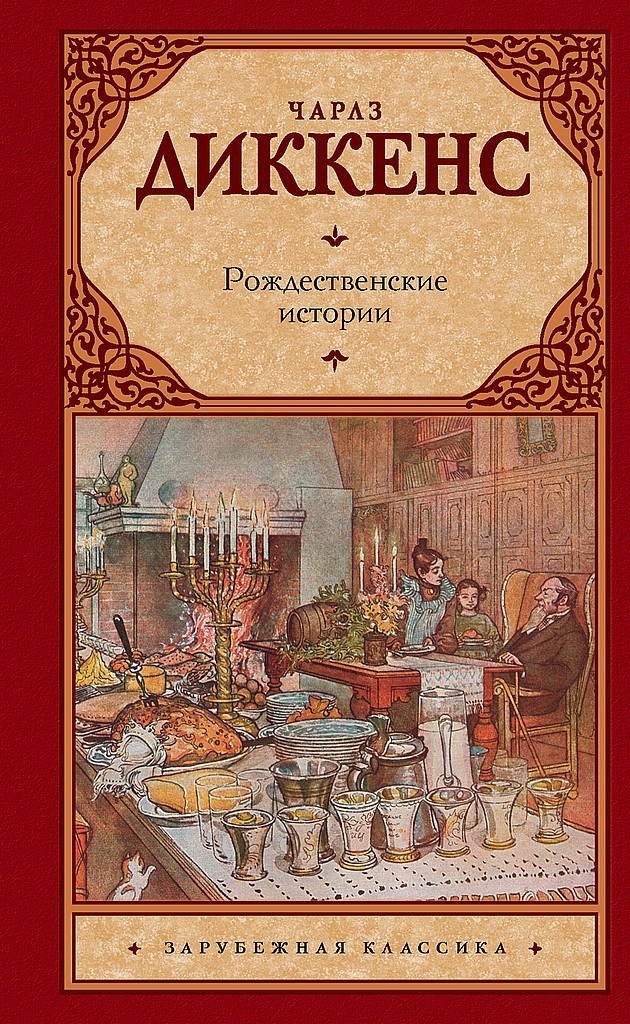Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мистика Диккенса очень и очень разная (как, собственно, и в служившем ему вдохновением фольклоре) — поэтичная и наивная, шутливая и серьезная. Некоторые произведения щемяще нежны, некоторые отличаются жестким морально-этическим посылом. Одни изящно стилизованы под старину, другие, напротив, подчеркнуто «бытовые». Добрый юмор соседствует с черным и висельным, а озорство — с серьезностью, сделавшей бы честь и «готическим» авторам. Читателю предстоит до самого конца изнывать от любопытства — какая мистическая история в итоге получит вполне «земное» объяснение, а какая так и останется дверью, распахнутой в неведомое…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Чарльз Диккенс»: