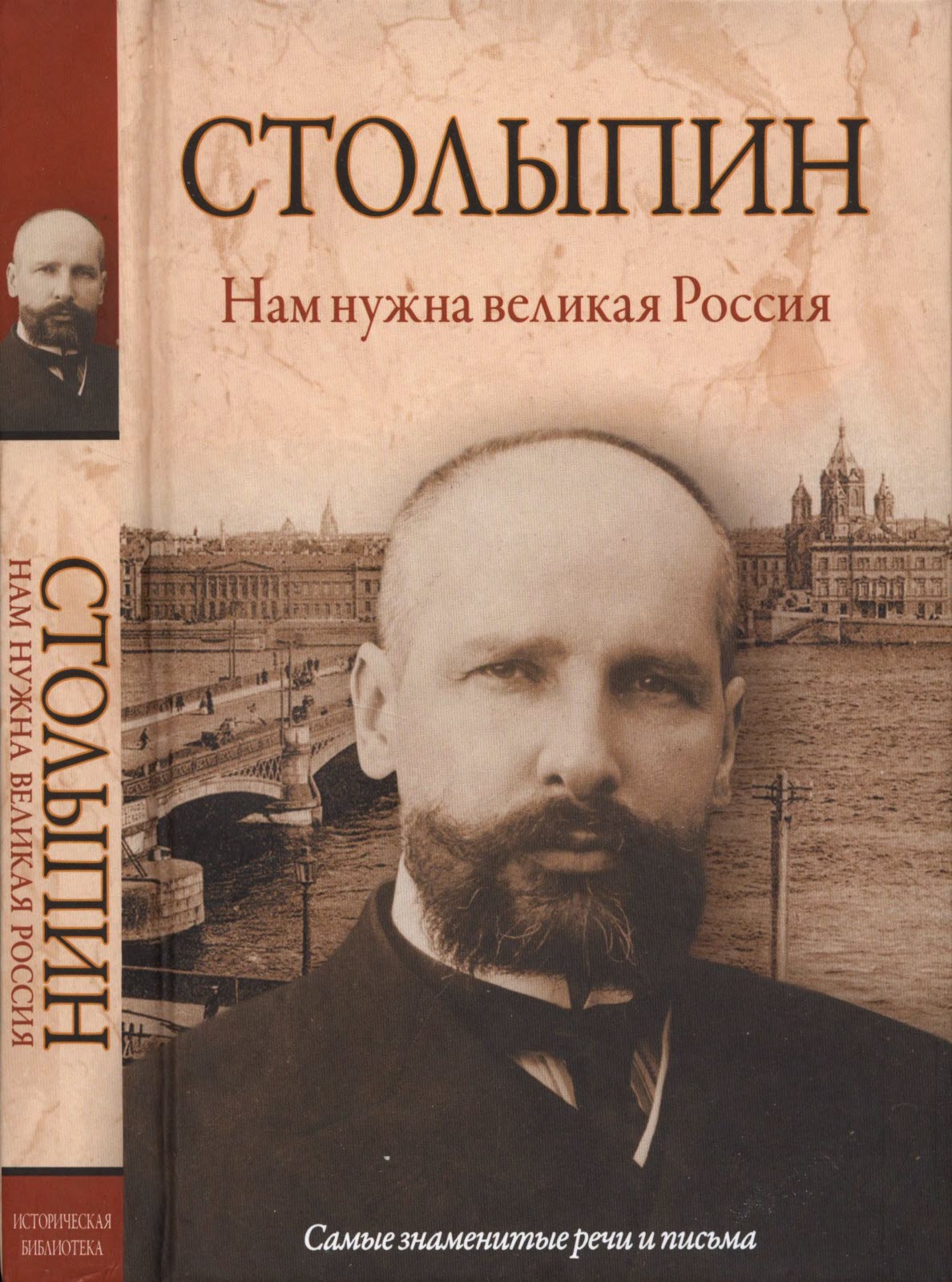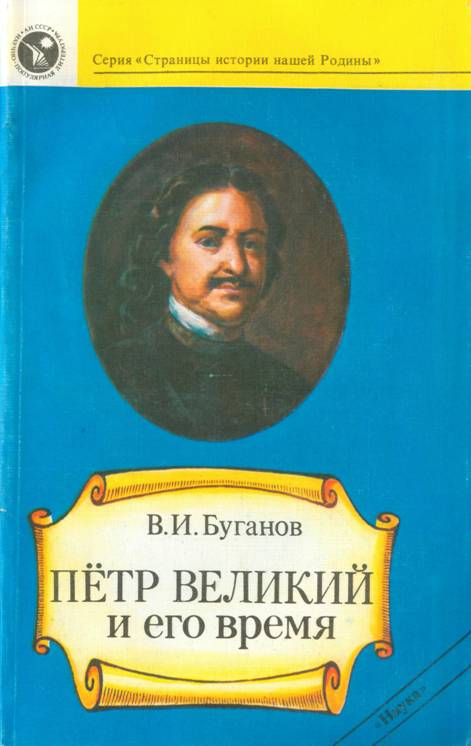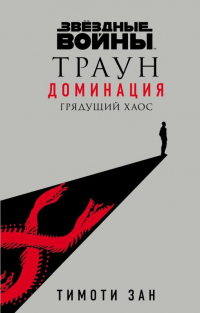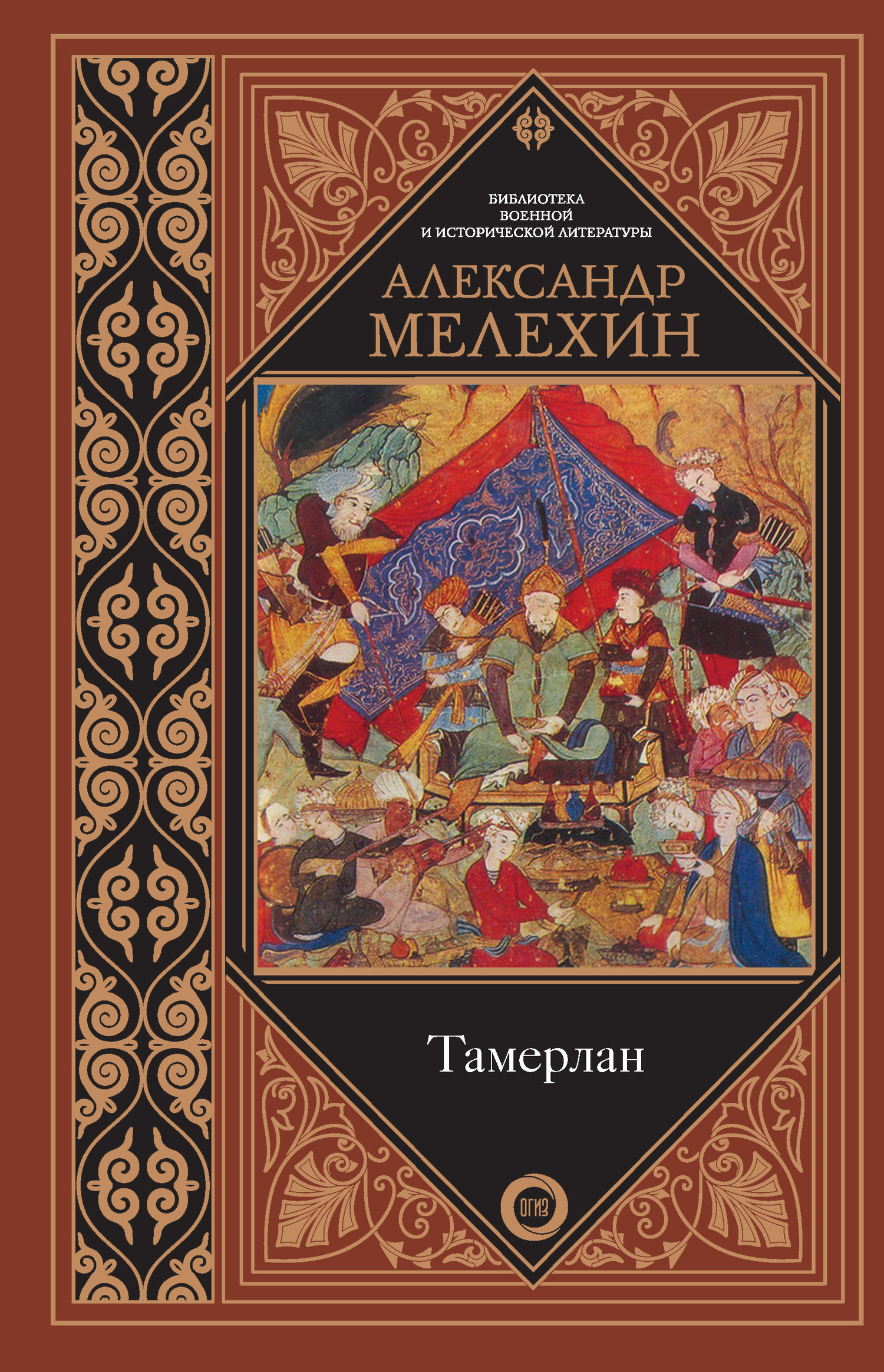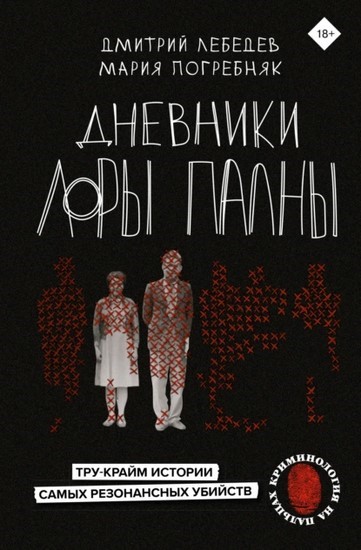Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Хорошо известна мифология, посвящённая Петру Столыпину — политику, которого принято идеализировать. А каким он был в действительности? Какое политическое наследие оставил? Насколько эффективны были его экономические реформы? Авторы этой книги — историки XXI века и современники Столыпина — отвечают на эти вопросы с опорой на факты.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Иванович Колпакиди»: