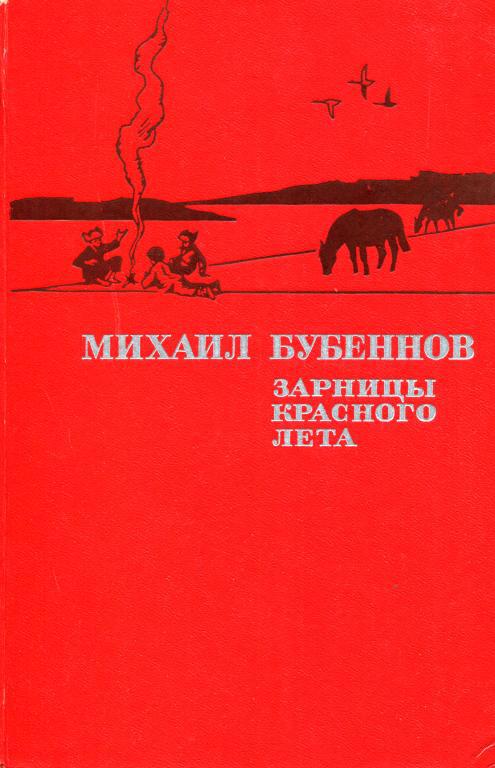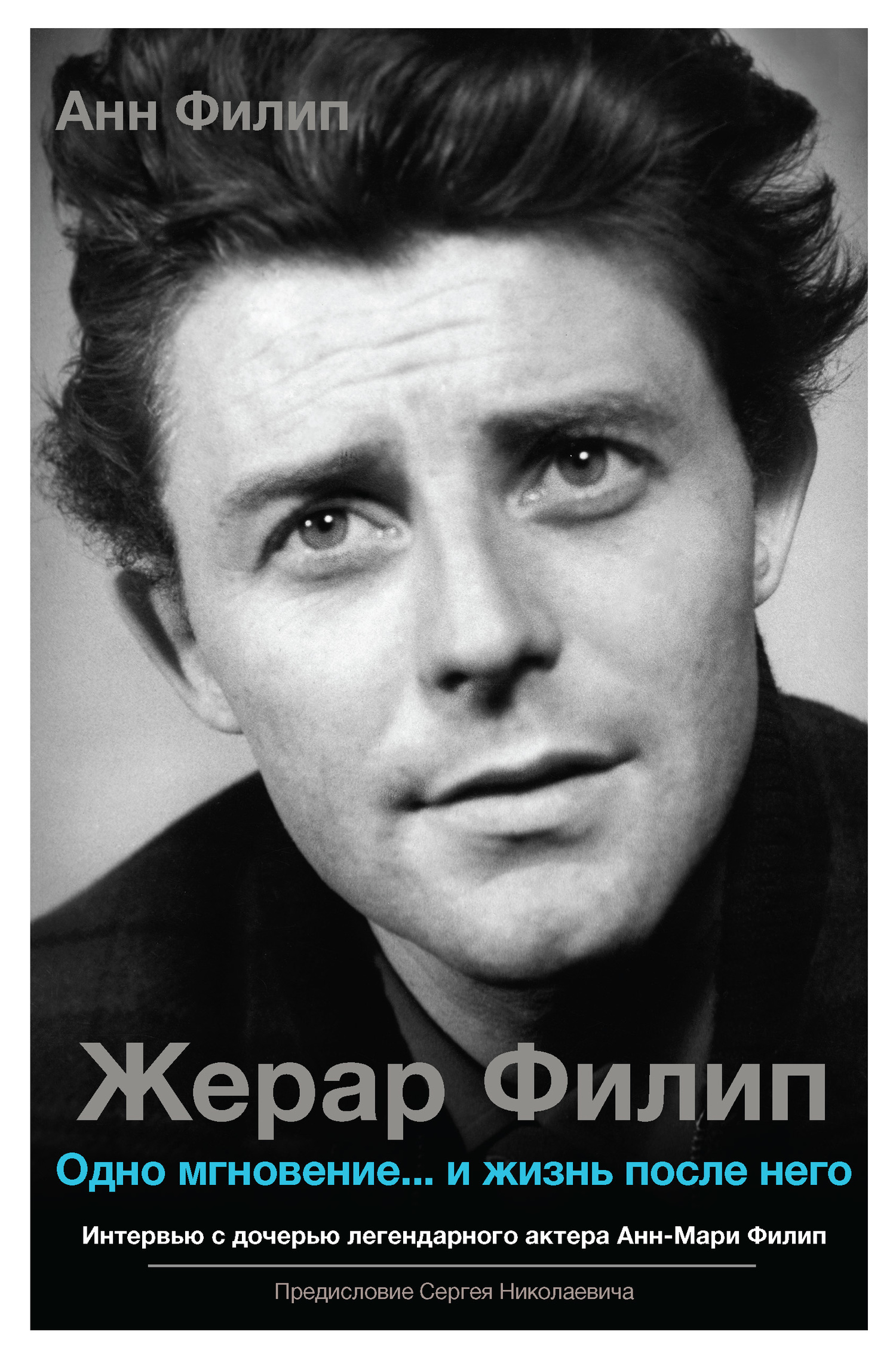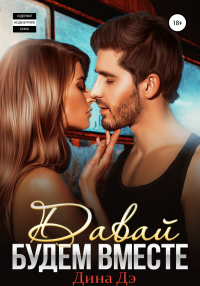Шрифт:
Закладка:
Произведения, вошедшие в сборник лауреата Государственной премии СССР М. С. Бубеннова, посвящены борьбе за Советскую власть в годы гражданской войны. В новой повести «Зарницы красного лета», во многом автобиографичной, писатель рассказывает о повстанческом движении против белогвардейщины на Алтае, где под руководством отважных и мужественных командиров Петра Сухова, Ефима Мамонтова, Игнатия Громова и др. героически сражались многотысячные партизанские силы. Развернув летом и осенью 1919 года широкие военные действия в тылу Колчака, партизаны оказали большую помощь молодой Красной Армии. Повесть «Бессмертие», рассказы «Огонь в тайге» «На Катуни», «У старого тополя» и «Чужая земля» дополняют картину далекого грозового времени, когда советские люди с оружием в руках отстаивали завоевания Великой Октябрьской социалистической революции.