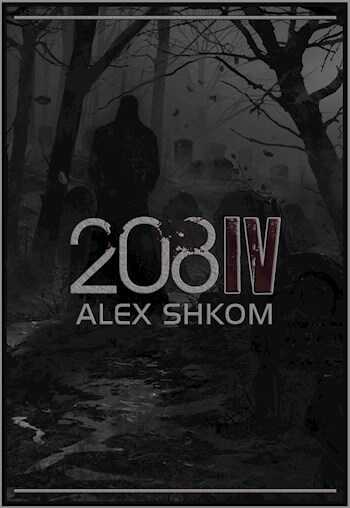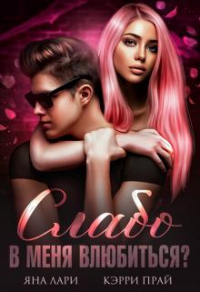Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
США, 2084-й год, осень. Паразит изничтожил большинство людей полвека назад, наступила стагнация человечества, больше напоминающая его закат. Оставшиеся в живых давно смирились и, адаптировавшись, ожесточились как к своим заражённым сородичам, так и сами к себе. История повествует о человеке, существующем с одним простым осознанием: совсем скоро он умрёт; о его попытках предпринять что-то до его собственной смерти.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Alex Shkom»: