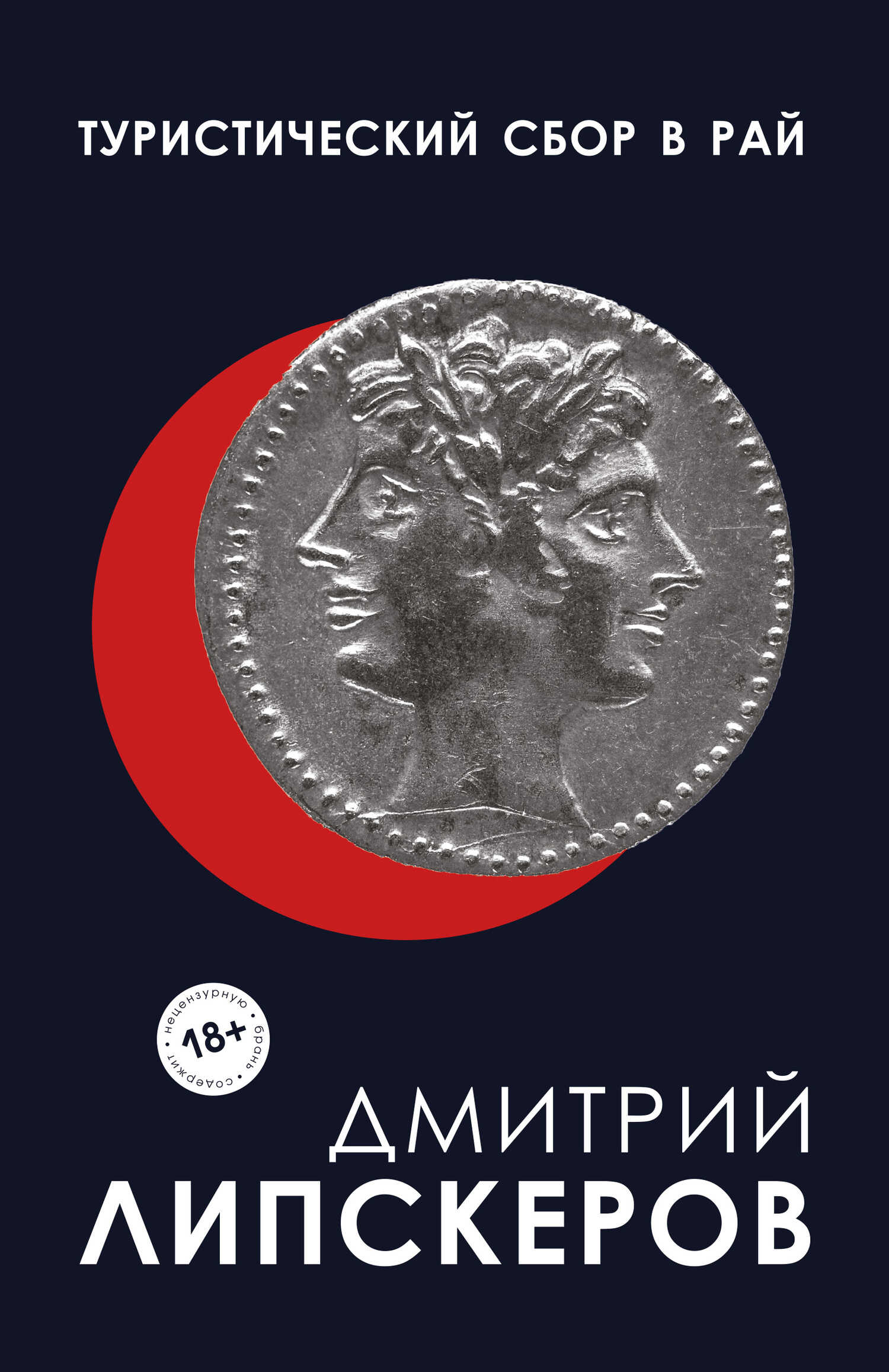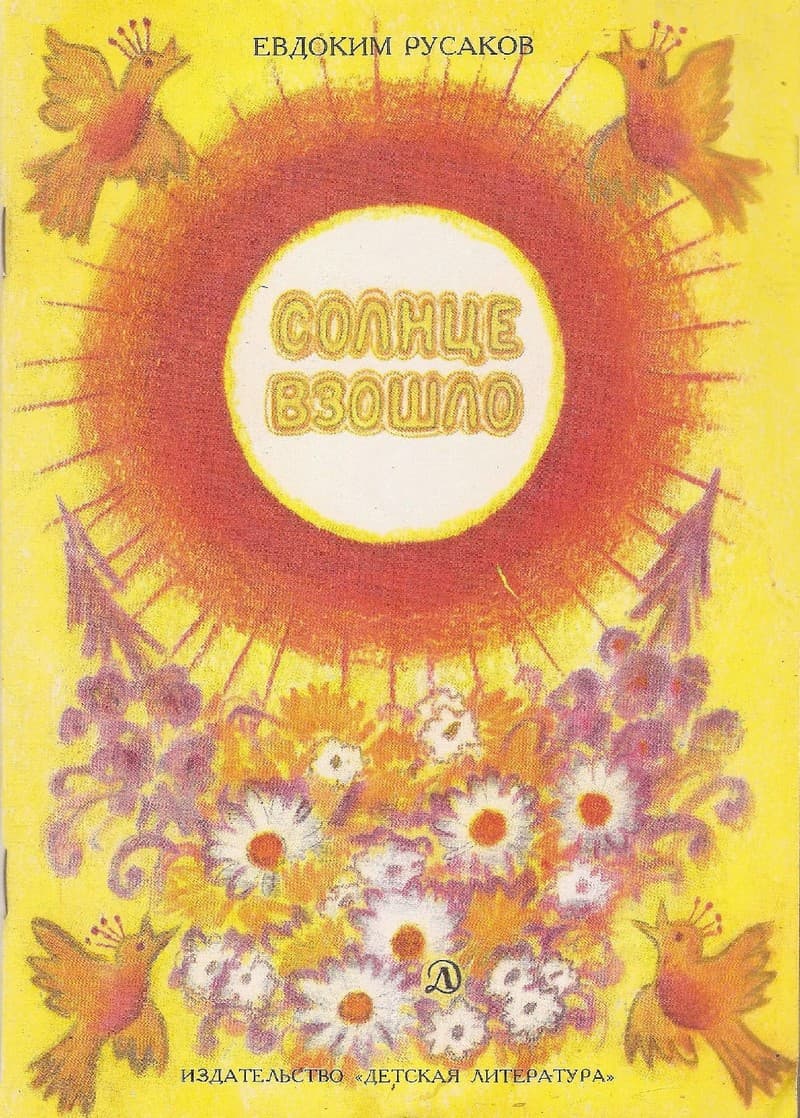Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Жизнь человека похожа на значок Инь-Ян: в каждом белом периоде есть капля черного и наоборот. Известный еще со времен «Вагриуса» прозаик Дмитрий Липскеров в новой книге рассказов и новелл показывает нам галерею человеческих судеб. Здесь и престарелый профессор, влюбившийся в стриптизершу; и бандит из 90-х, по иронии – полный тезка Корнея Ивановича Чуковского; и романтичная девушка Нора, которая покорила Москву, но нашла счастье, вернувшись к себе на Родину в провинцию… Липскеров выступает в необычном для себя амплуа рассказчика реальных историй, каждая из которых расширяется до настоящего романа.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дмитрий Михайлович Липскеров»: