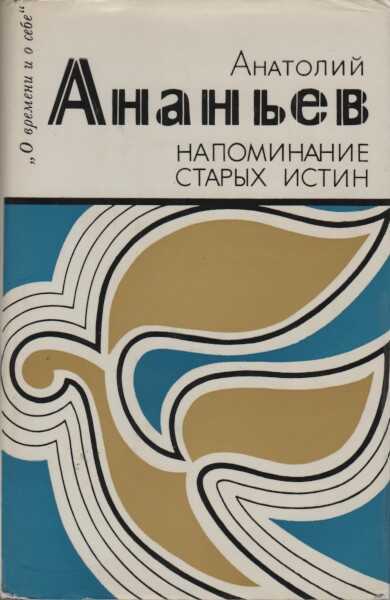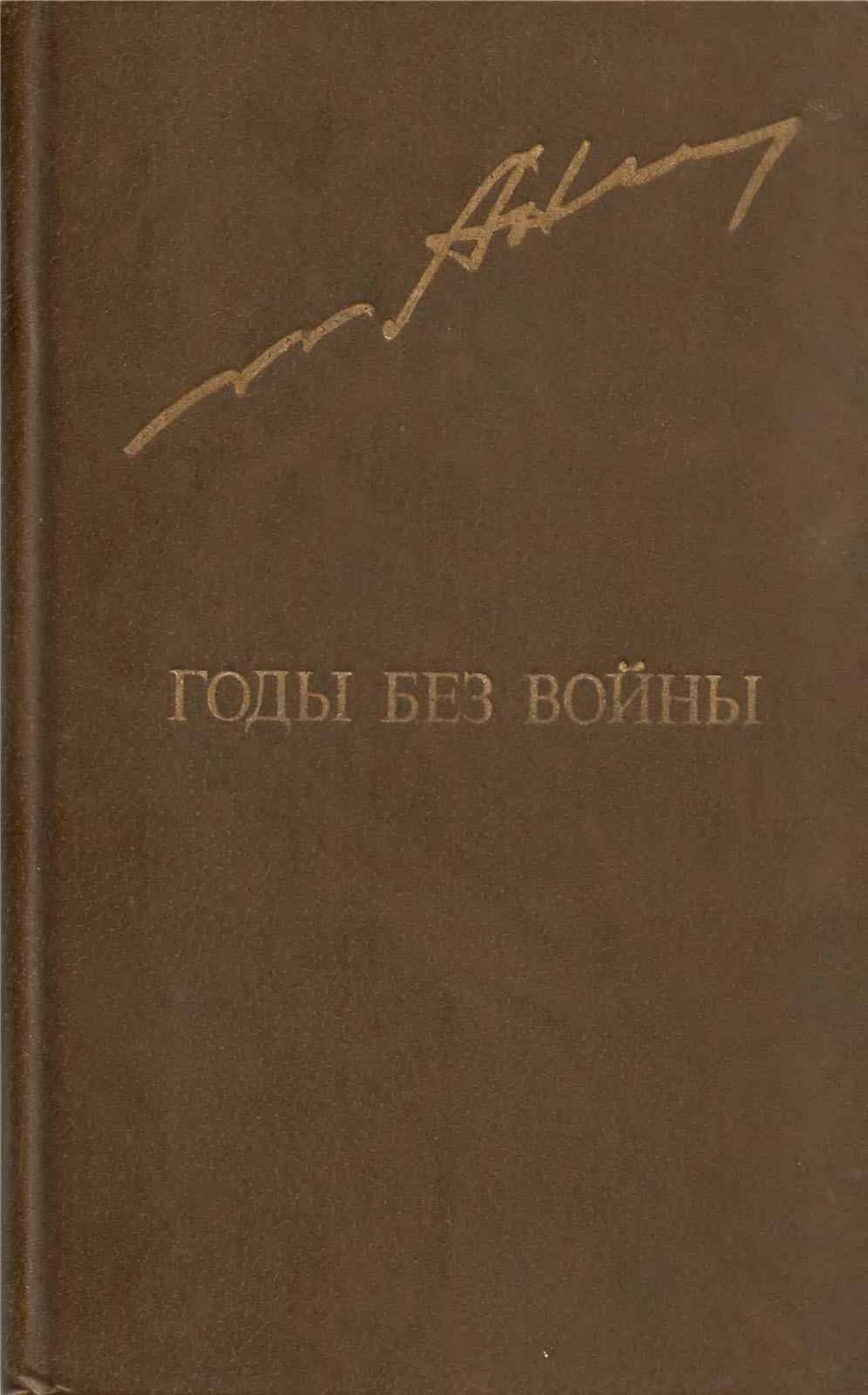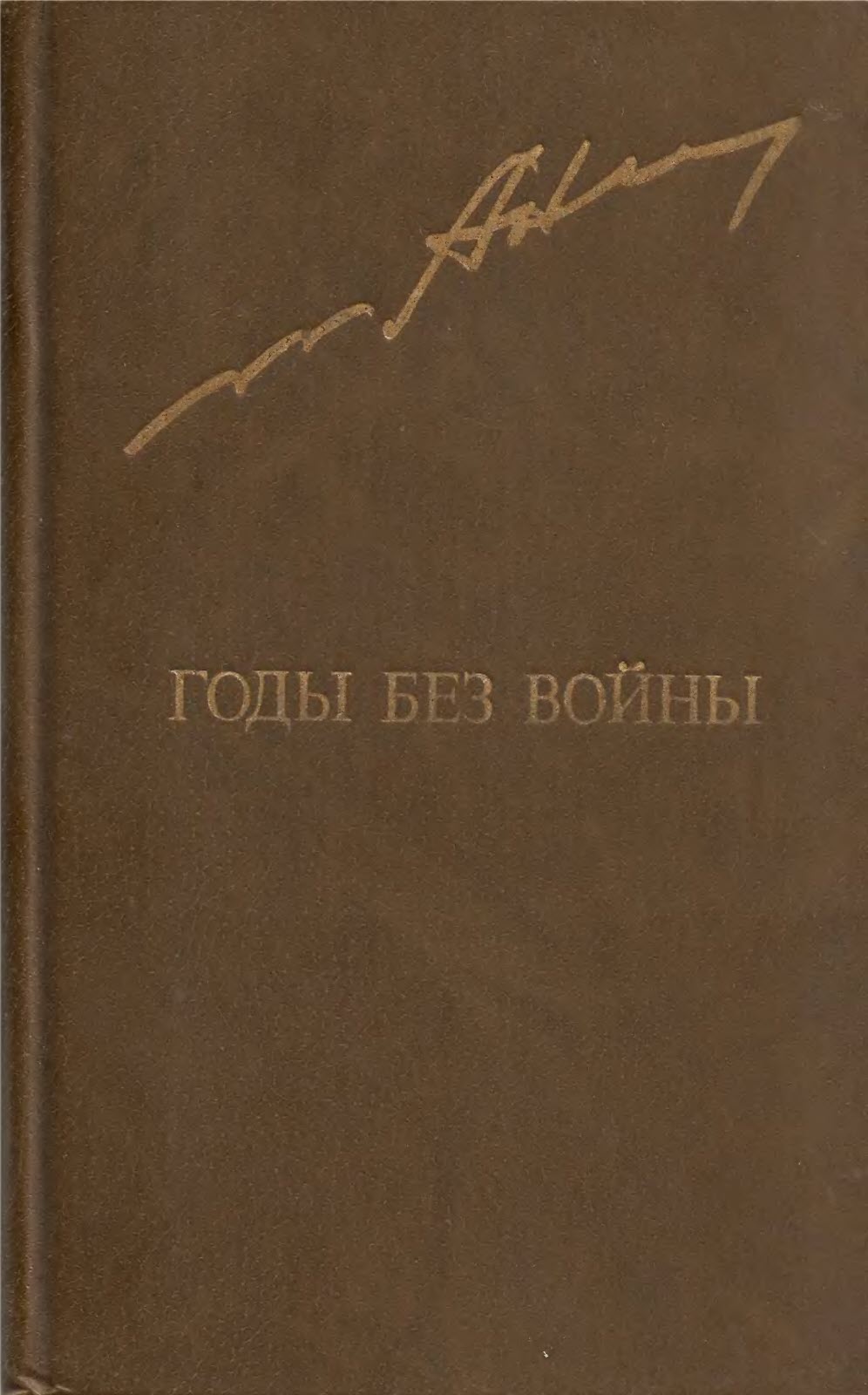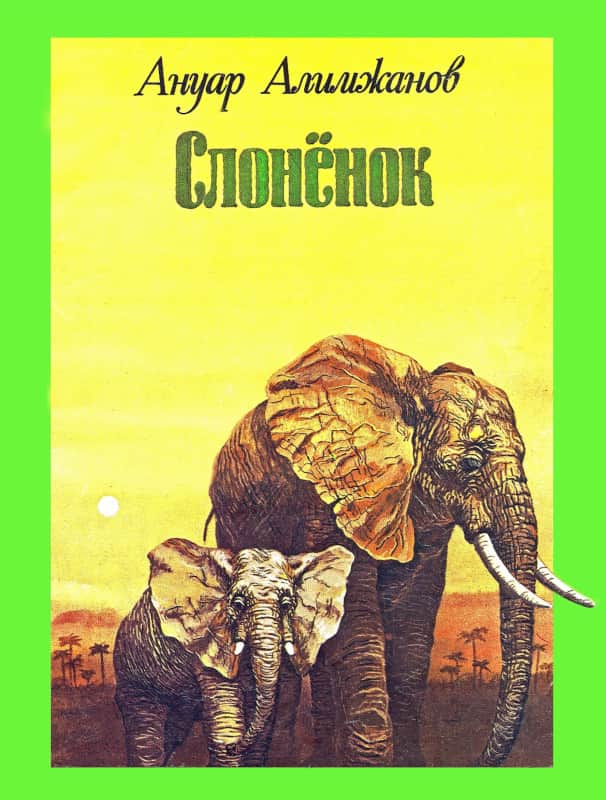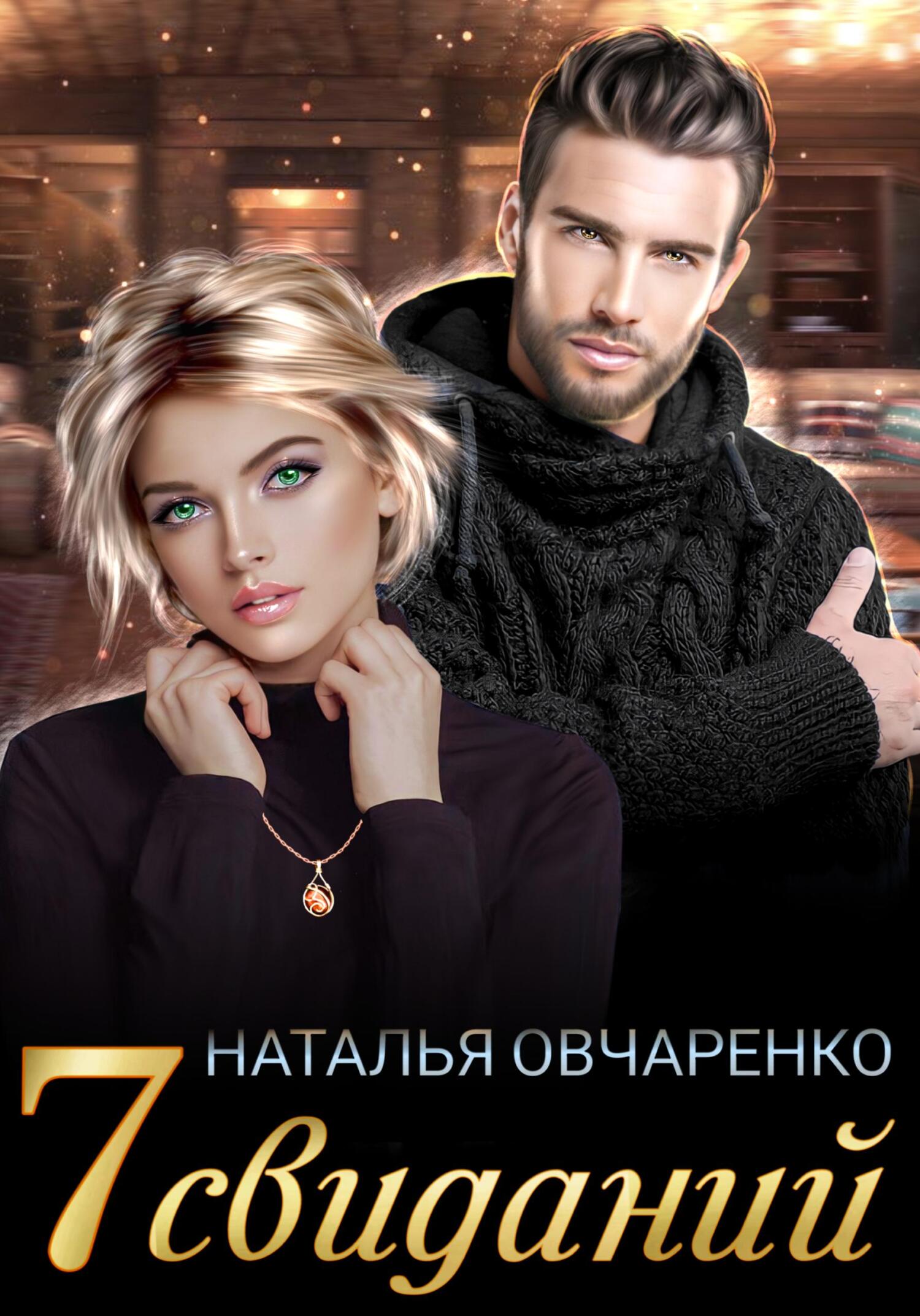Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Издательская аннотация отсутствует. _____ Роман Героя Социалистического Труда Анатолия Ананьева «Годы без войны» — эпически многоплановое полотно народной жизни. В центре внимания автора — важные философские, нравственные и социальные вопросы, тесно связанные с жизнью нашего общества.
из сети
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анатолий Андреевич Ананьев»: