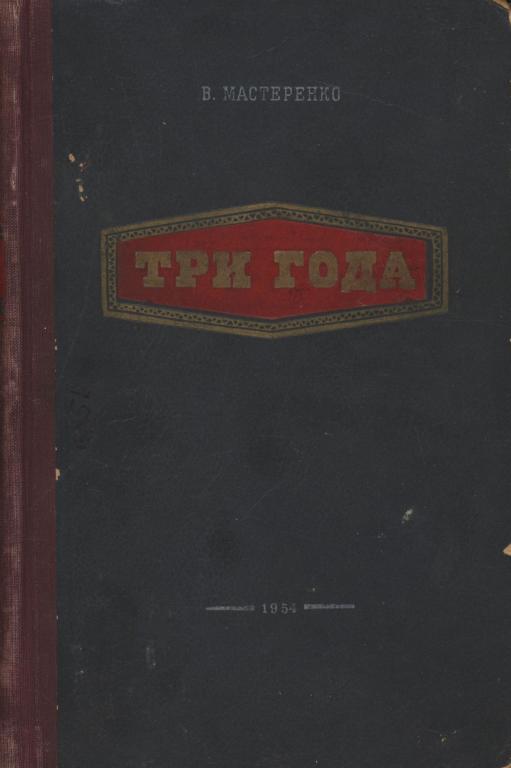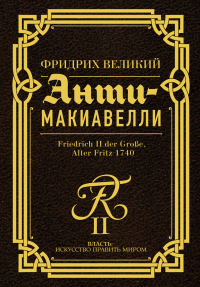Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эта книга тематически продолжает выпущенную в 1950 году Новосибирским книжным издательством повесть «Пути-дороги».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Андреевич Мастеренко»: