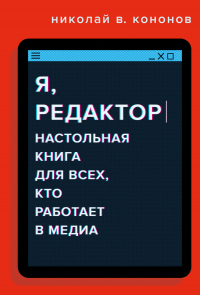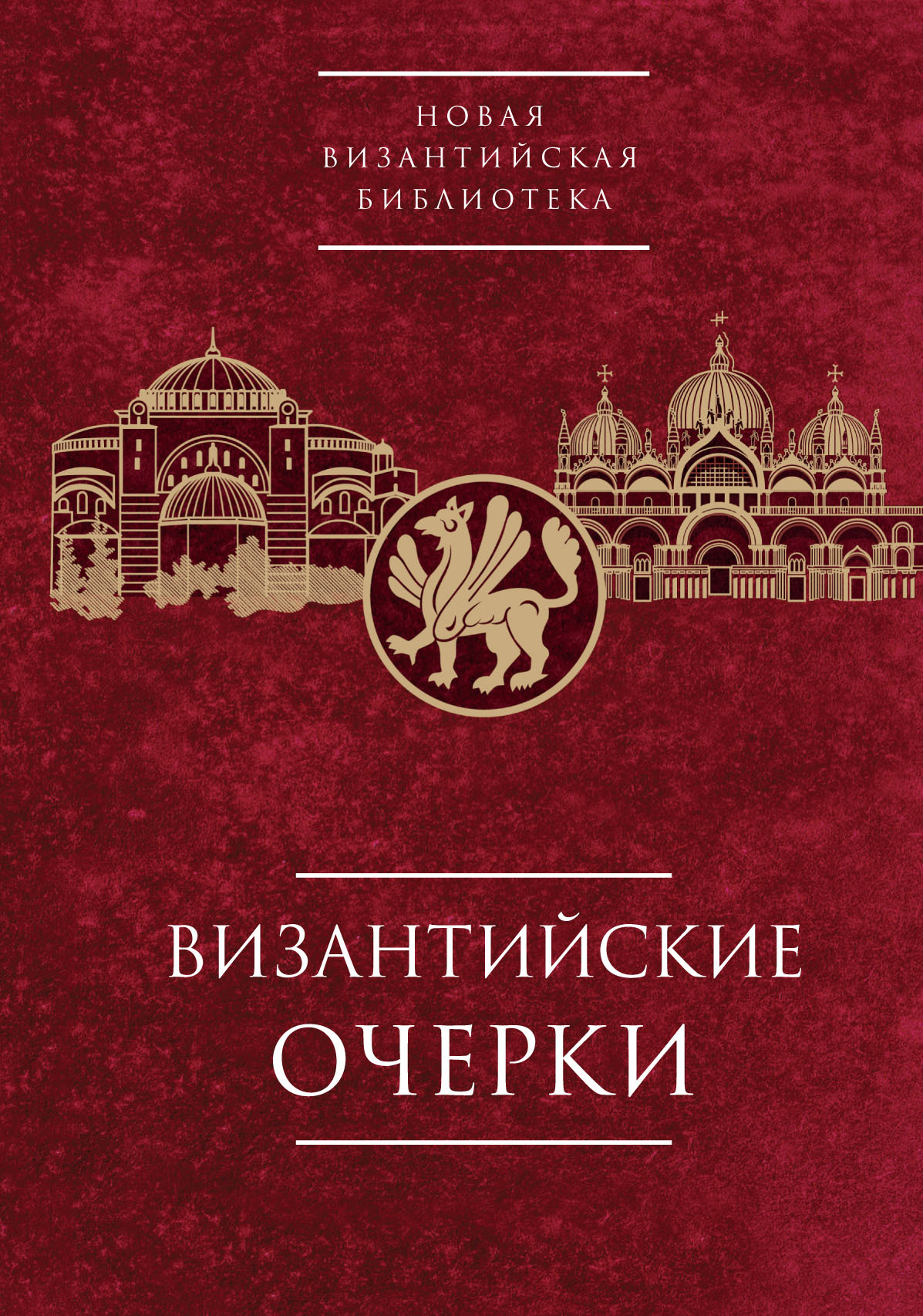Шрифт:
Закладка:
«Одиночество и свобода» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955) – единственная прижизненная книга критической прозы Г. В. Адамовича (1892—1972). Составленная из заново отредактированных, а частично и вновь написанных статей, публиковавшихся в эмигрантских газетах и журналах (преимущественно в «Последних новостях» и «Современных записках» в 1920—1930-е годы, но также в «Русских новостях» и «Новом русском слове»), она подводила литературные итоги первой волны, вызвала в эмиграции интересную полемику, задав тон и уровень разговора и в большой мере определив послевоенную литературную ситуацию. В приложениях к комментированному изданию – история подготовки книги, воссозданная по переписке Адамовича, а также полный свод его писем к редакторам Издательства имени Чехова, публикуемый впервые.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.