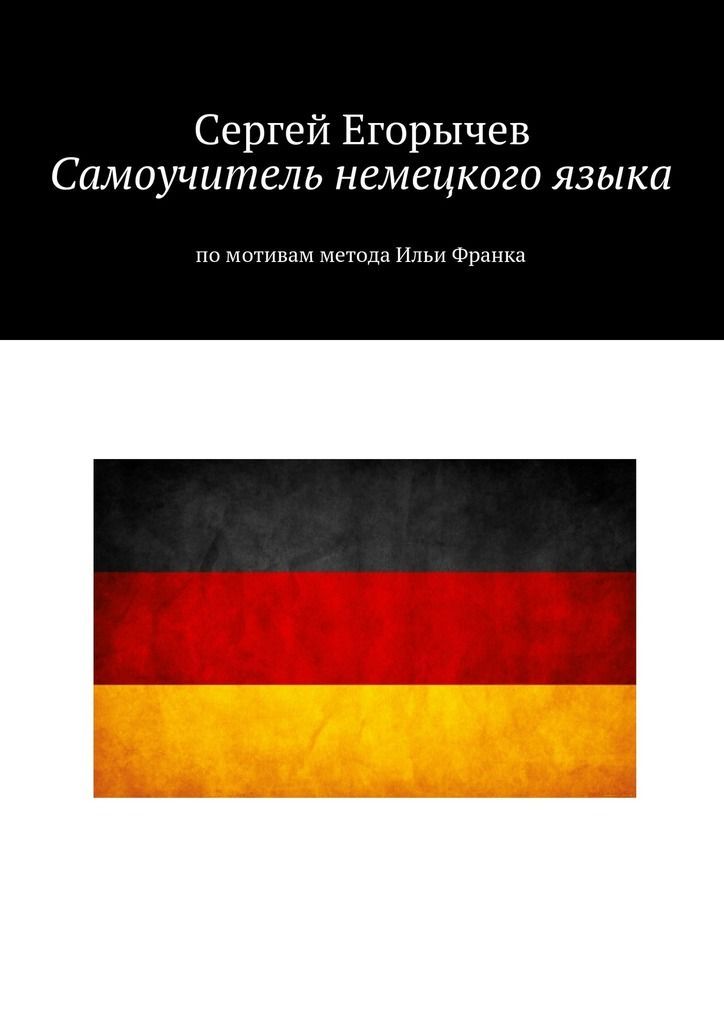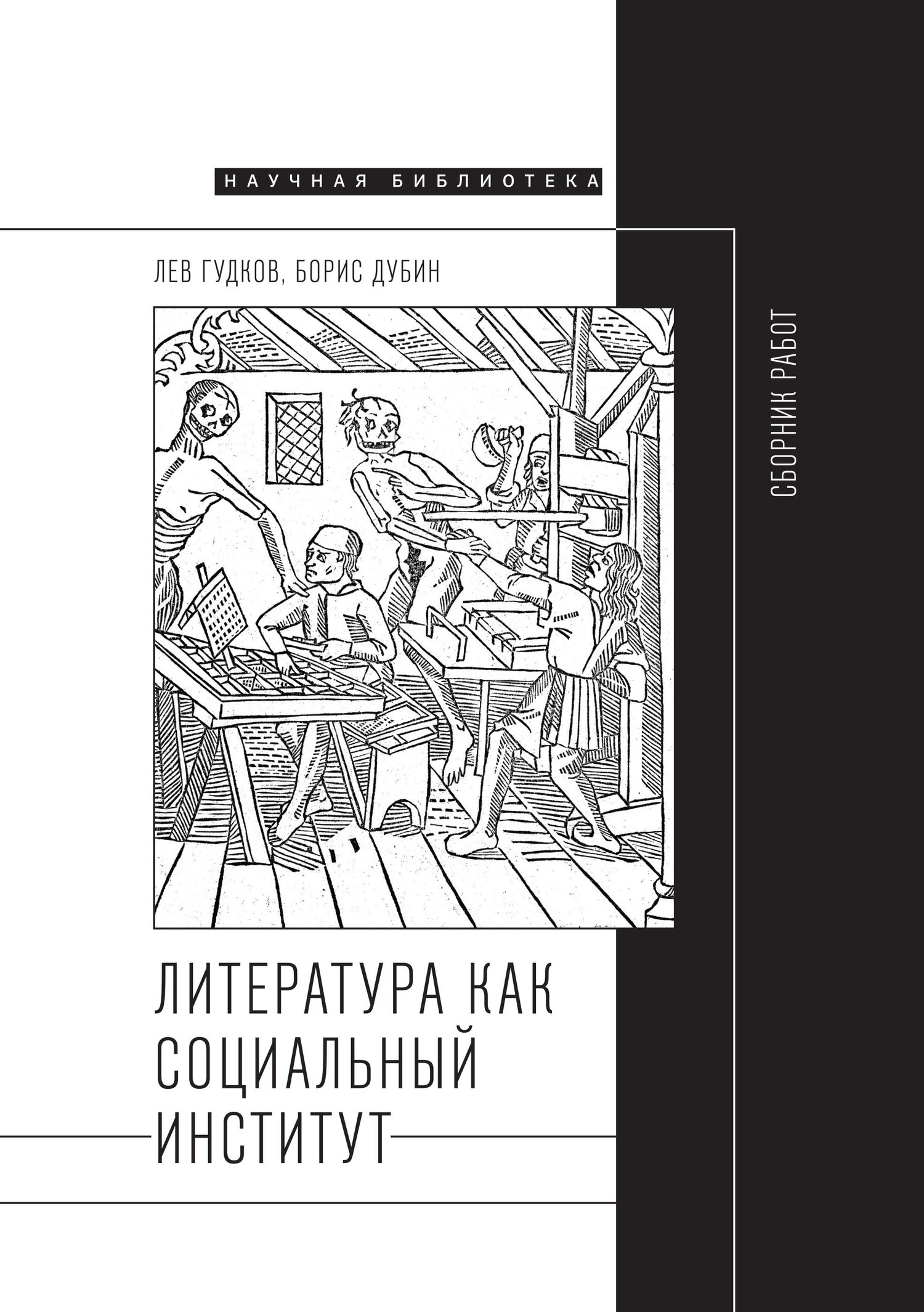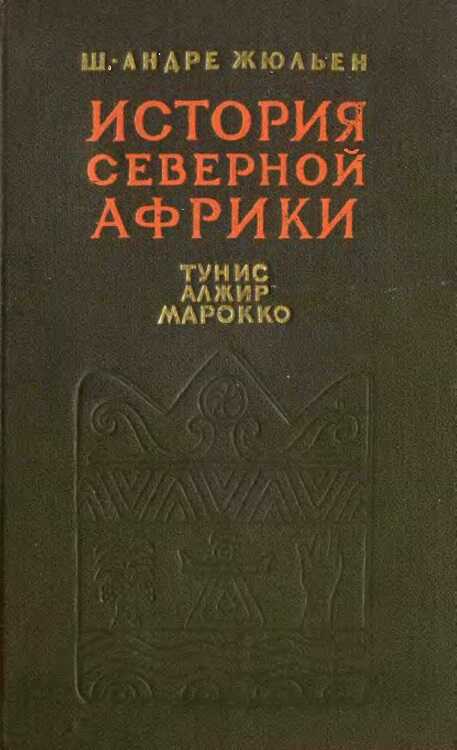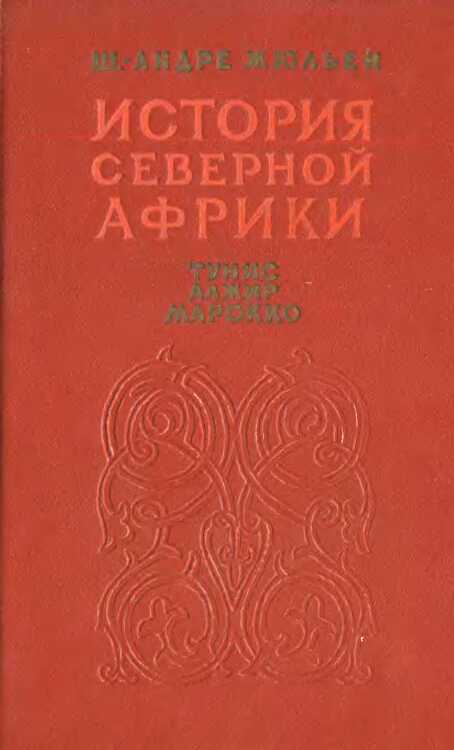Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Илья Кочергин – прозаик, автор книг «Помощник китайца», «Точка сборки» и «Присвоение пространства». Лауреат премий журналов «Знамя», «Новый мир», «Октябрь».В новую книгу вошли повесть «Запасный выход», а также рассказы «Рыцарь», «Экспедиция» и «Сахар».…Взять однажды и уехать с любимой в самую глушь, построить собственными руками дом, забрать на доживание старенького коня. За окном зиму сменяет лето, начинается и заканчивается эпидемия ковида, приходит и уходит 2022 год – а конь Феня, спасенный от живодерни, постепенно становится центром небольшой вселенной и помогает найти тот самый запасный выход.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Илья Николаевич Кочергин»: