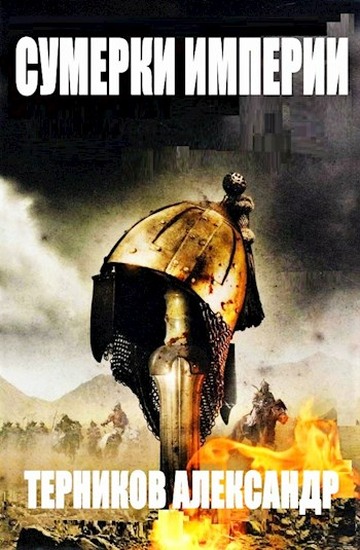Шрифт:
Закладка:
Илья Эренбург (1891–1967) – писатель, поэт, журналист, переводчик с французского и испанского языков, общественный деятель.Из всех стран Европы он наиболее тесно был связан с Францией – и тем, что дольше всего там жил, и тем, что лучше всего знал и чувствовал ее язык, культуру, историю.«Французские тетради», написанные в 1957 году, произвели фурор в литературных кругах – знаменитый эренбургский эзопов язык, острые высказывания и глубокие размышления вызвали большой интерес у читателей.Почему Гюго и другие писатели того времени скептически относились к творчеству Стендаля? Как Пикассо пришел из академизма к кубизму, став новатором? За что любили и ненавидели друг друга импрессионисты? И что же такое французская культура и ее наследие в мировой цивилизации?Эренбург отвечает на эти и многие другие вопросы, открывая заново Францию и самых ярких ее представителей.