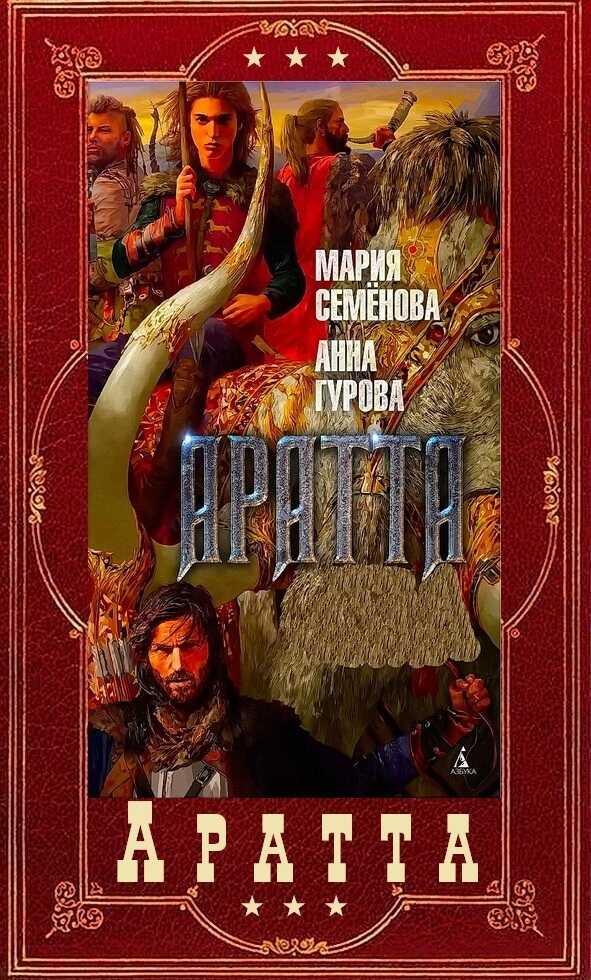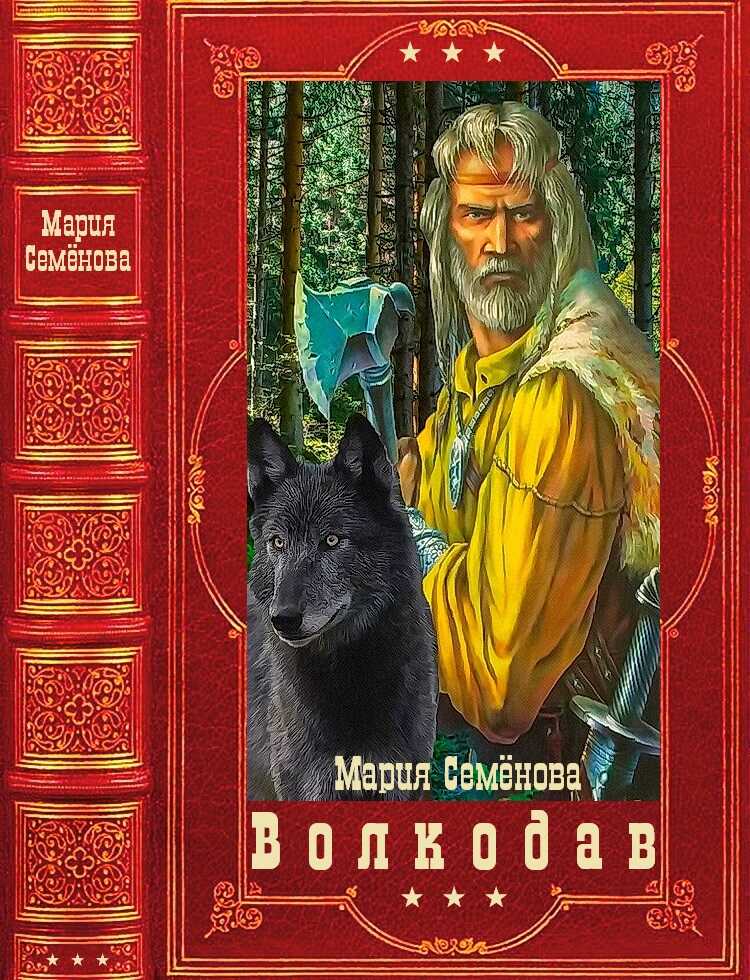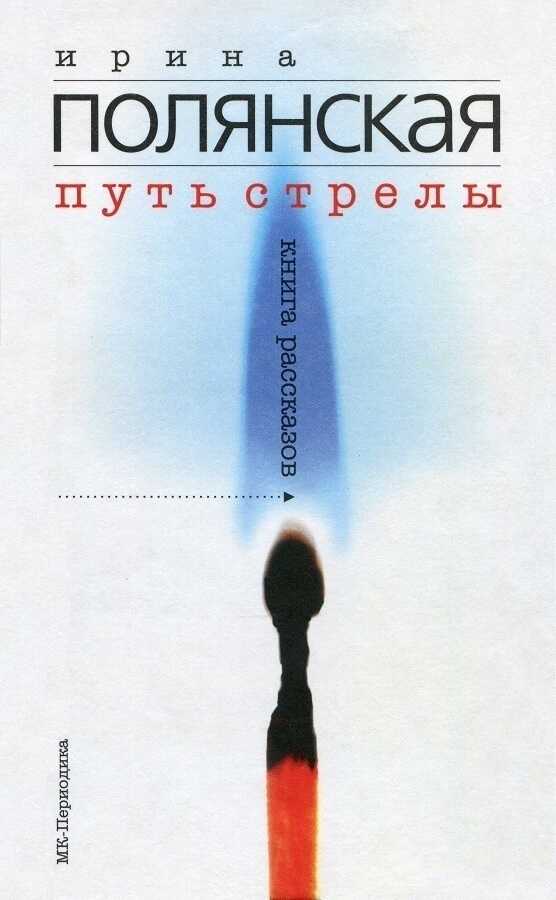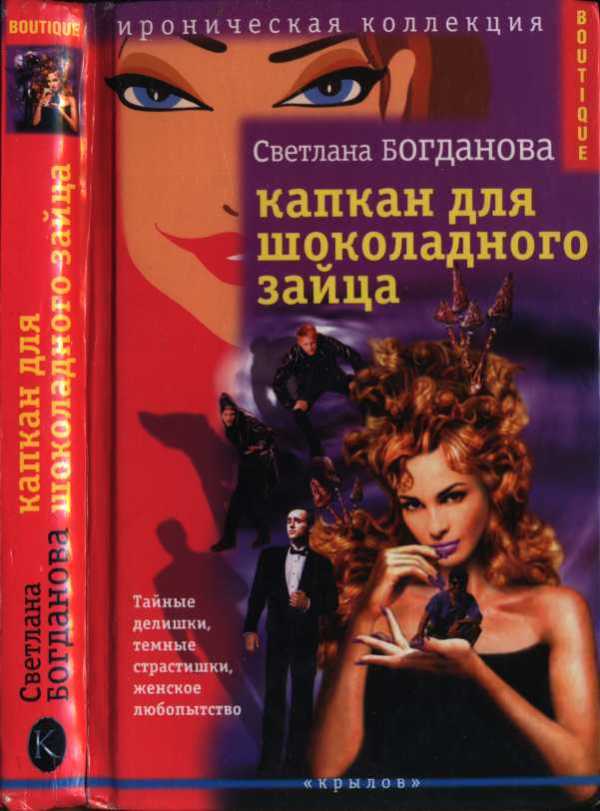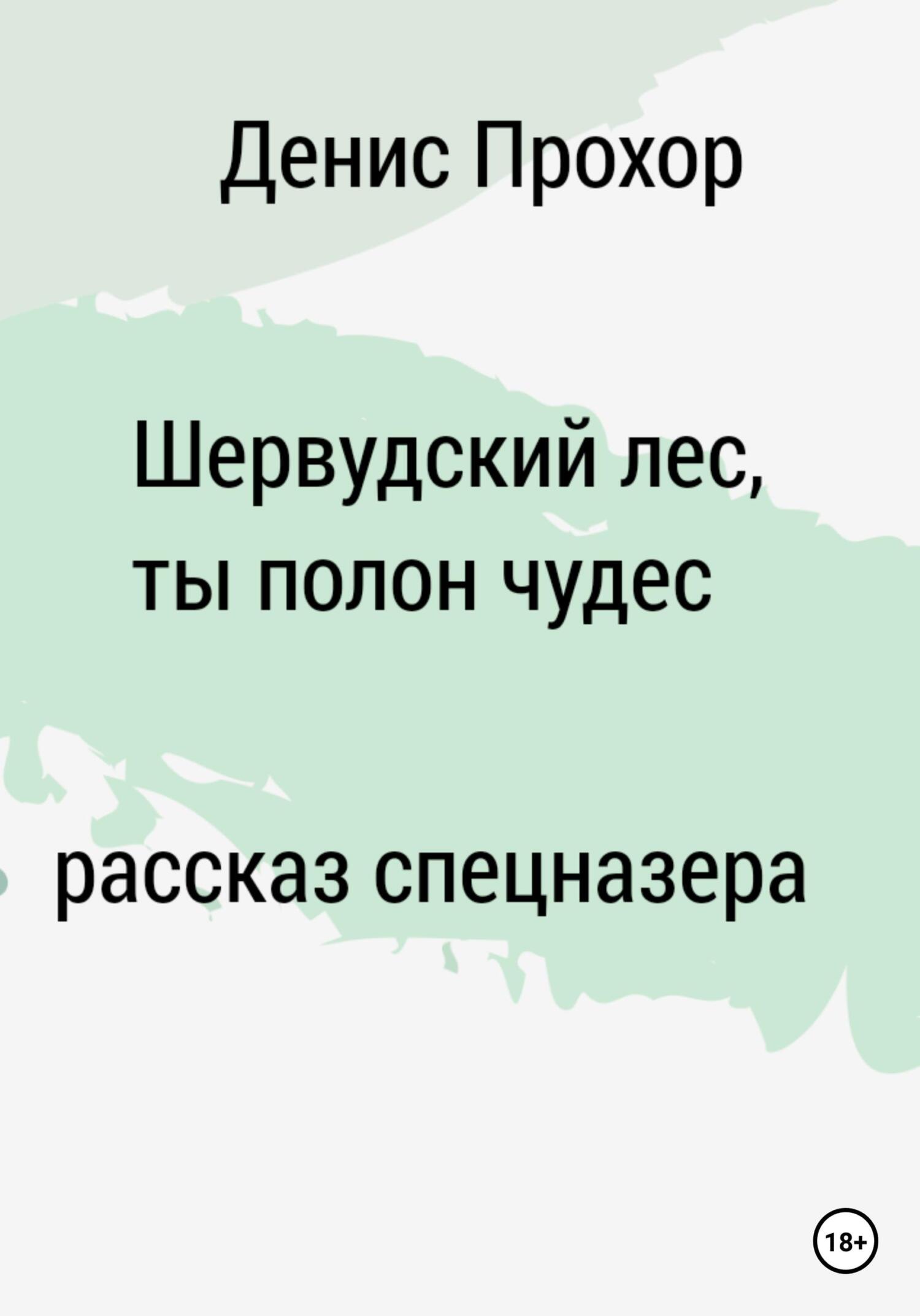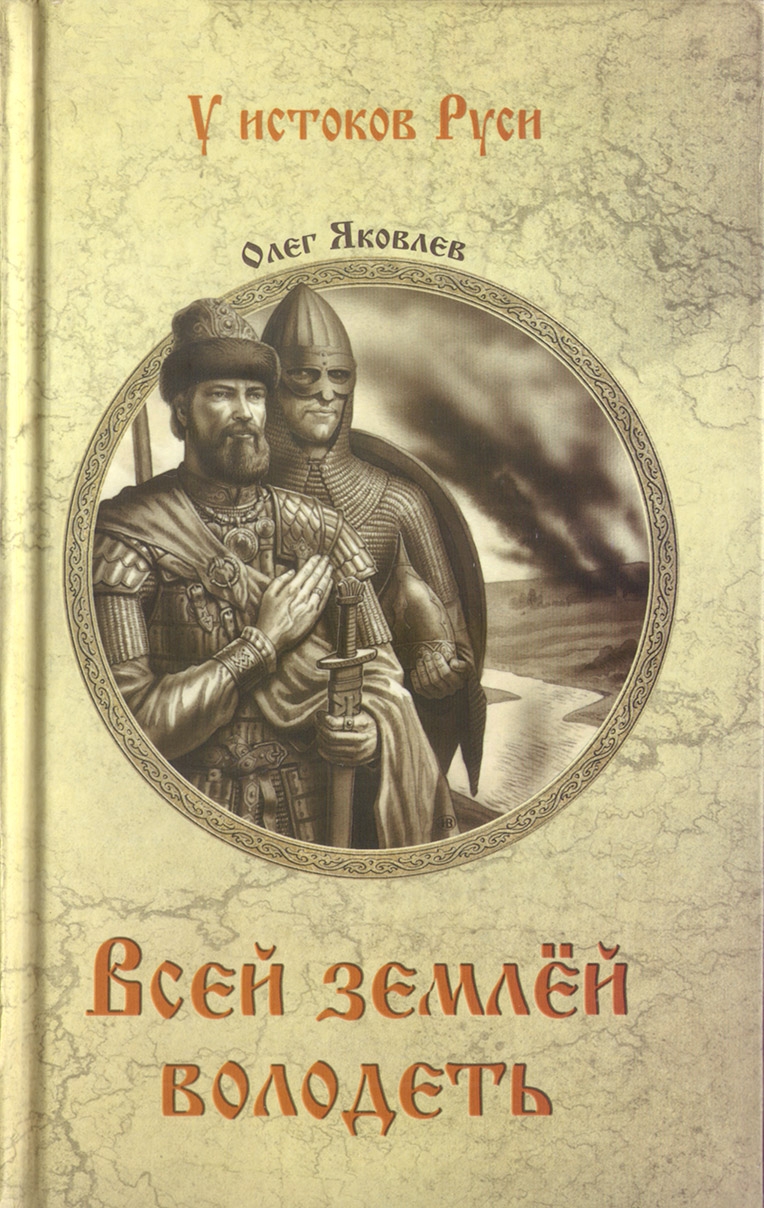Шрифт:
Закладка:
Волкодав - Был мальчик, жил своей жизнью в своем небольшом привычном мире. И вот этот мир уничтожен напрочь. Убиты все, кто его населял, от старого-старого деда и до последнего младенца. Не осталось ни-че-го! И этого мальчика продали на самую страшную каторгу, туда, где сильные взрослые мужчины долго не выживают. Что может быть на душе у такого ребенка? Только одна программа — выжить, освободиться, научиться сражаться и отомстить. Все! Отомстить и умереть, так как больше жить незачем, других целей нет в принципе. И эту програму мальчик/юноша/мужчина выполнил. Прошел все, перенес все, отомстил. А умереть не получилось. И надо жить дальше. А как? Ведь этот человек просто не знает, что оно такое — жить. Он не умеет просто улыбаться солнцу, он не знает, что такое любить женщину, что значит посидеть в кабаке с друзьями... Он не знает и не умеет вообще ничего, что называется «жить». Он умеет только сражаться. Причем он не умеет сражаться вполсилы, он всегда ведет бой как в последний раз. Вся книга — это история о том, как сожженное сердце учится жить.
Содержание:
Цикл романов "ВОЛКОДАВ":
1. Мария Семёнова: Волкодав 2. Мария Семёнова: Право на поединок 3. Мария Семёнова: Истовик-камень 4. Мария Семёнова: Знамение пути 5. Мария Семёнова: Самоцветные горы 6. Мария Семёнова: Мир по дороге