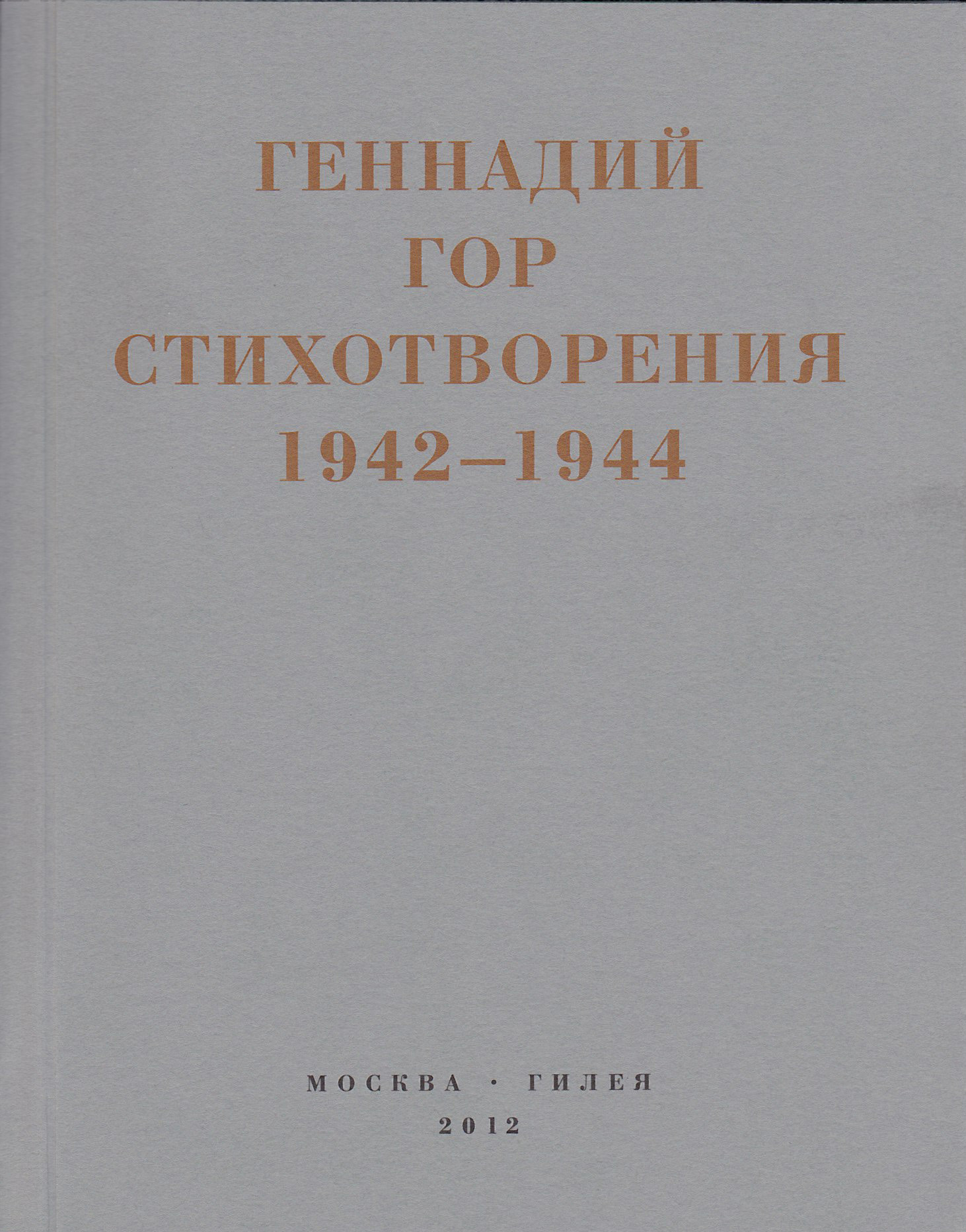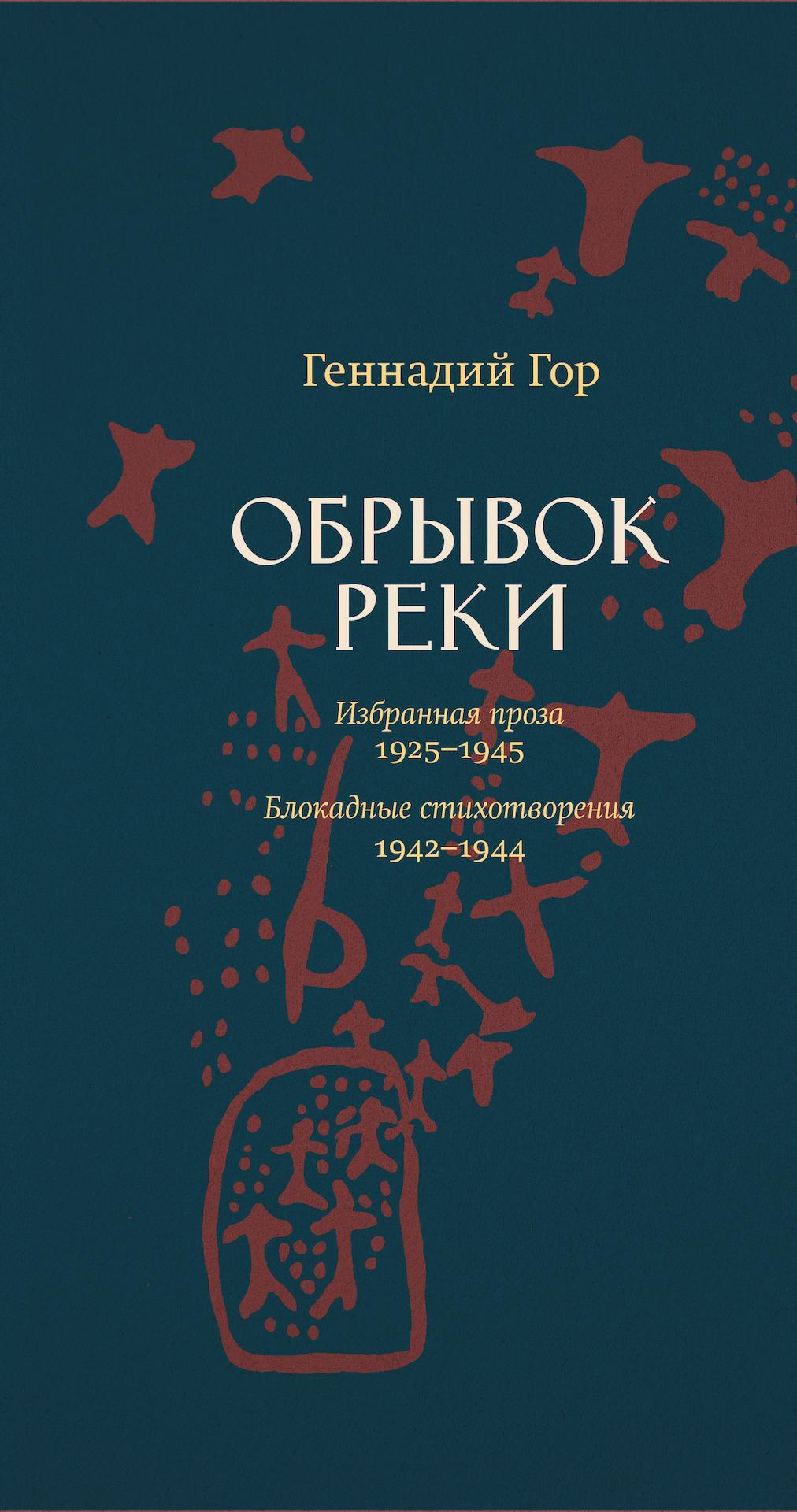Шрифт:
Закладка:
Имя Геннадия Шпаликова, поэта, сценариста, неразрывно связано с «оттепелью», тем недолгим, но удивительно свежим дыханием свободы, которая так по-разному отозвалась в искусстве поколения шестидесятников. Стихи он писал всю жизнь, они входили в его сценарии, становились песнями. «Пароход белый-беленький» и песни из кинофильма «Я шагаю по Москве» распевала вся страна. В 1966 году Шпаликов по собственному сценарию снял фильм «Долгая счастливая жизнь», который получил Гран-при на Международном фестивале авторского кино в Бергамо, но в СССР остался незамеченным, как и многие его кинематографические работы. Ни долгой, ни счастливой жизни у Геннадия Шпаликова не получилось, но лучи «нежной безнадежности» и того удивительного ощущения счастья простых вещей по-прежнему светят нам в созданных им текстах.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.