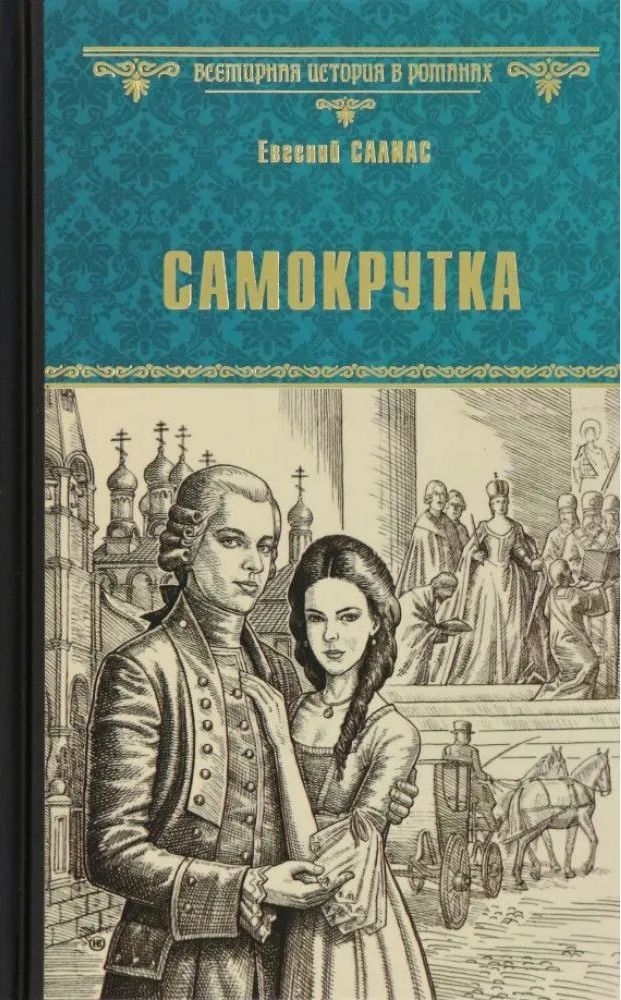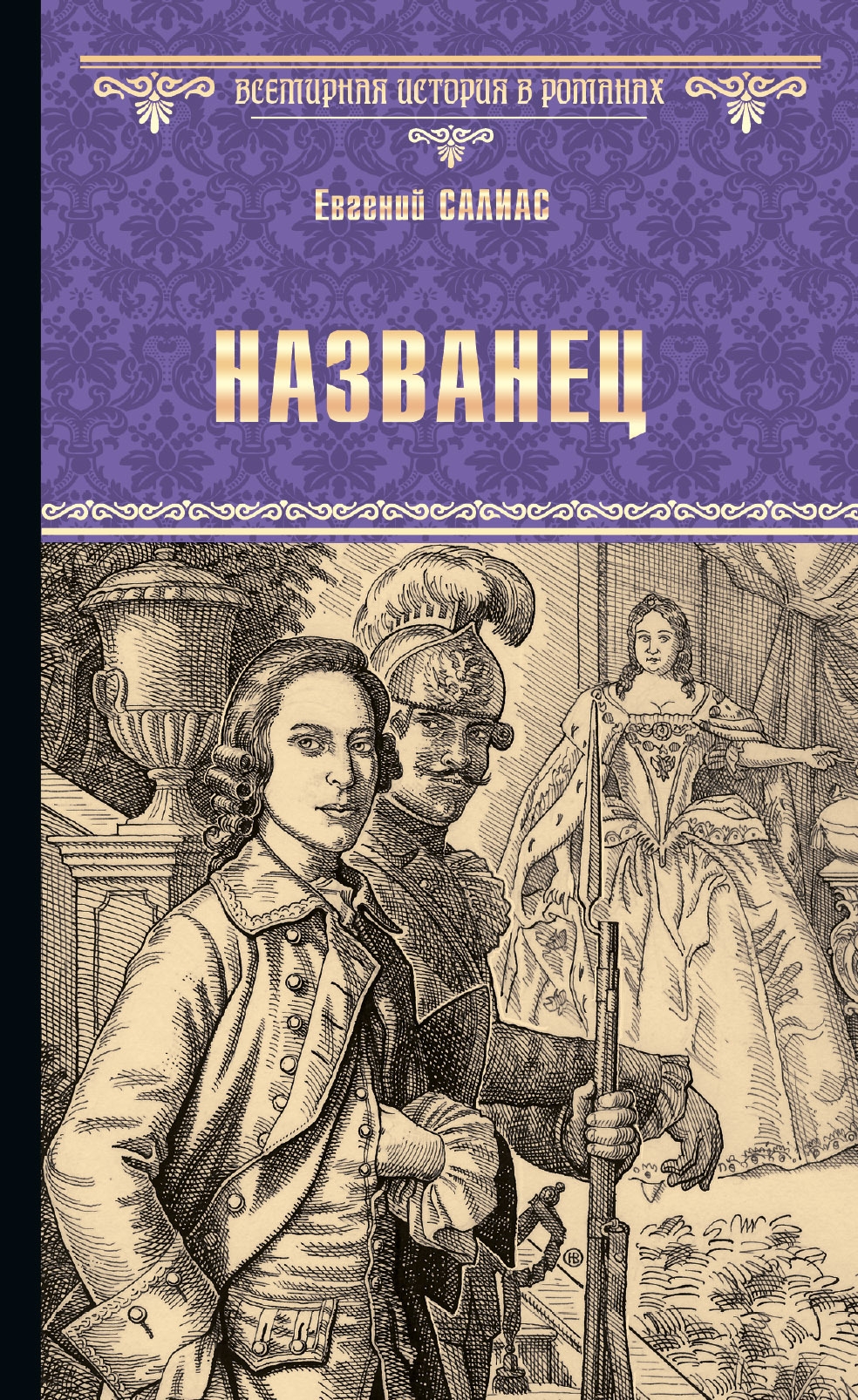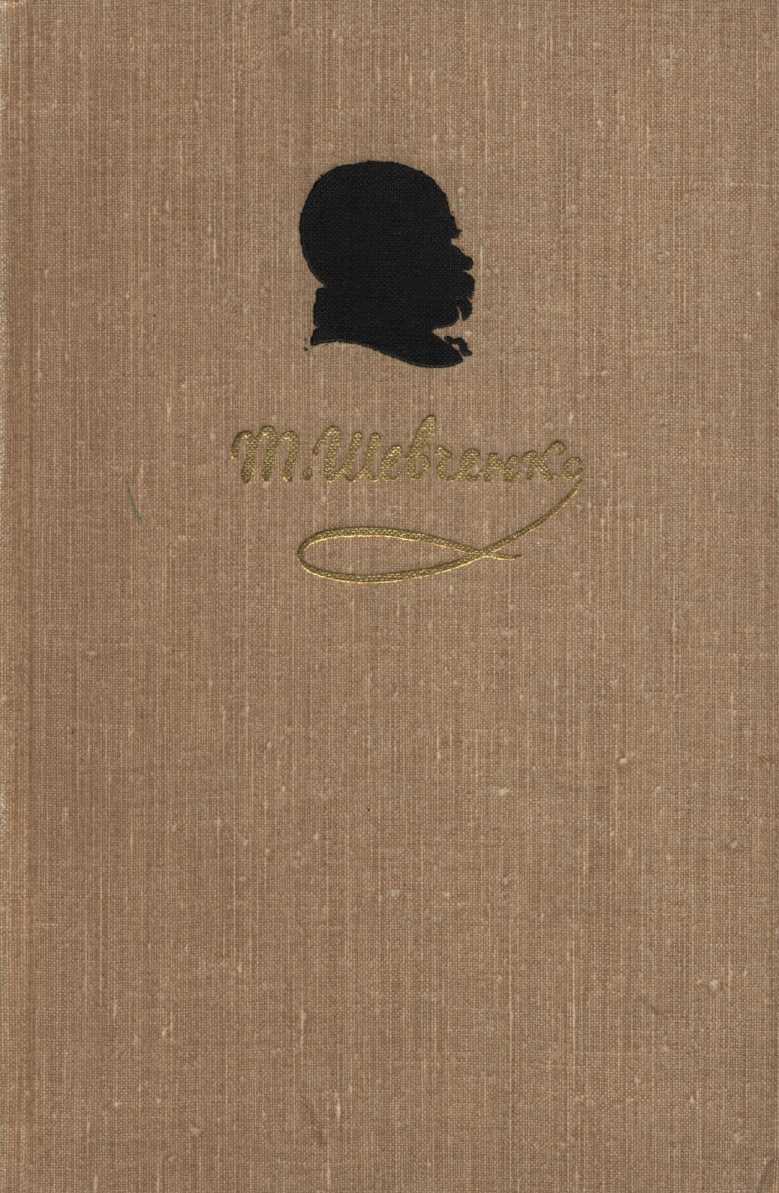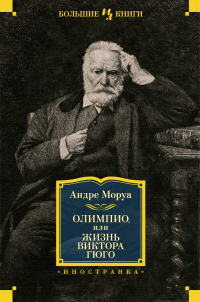Шрифт:
Закладка:
Самокрутка — так в старину назывался брак, заключённый самовольно, без благословения родителей. Осенью 1762 года именно на такую авантюру решается гвардеец Борщев, который влюблён, причём взаимно, но не надеется получить согласие отца своей избранницы. Из-за авантюры Борщёву грозит суд, но не это главная беда. Месяцем ранее Борщёв опрометчиво поселился в одном доме со своими сослуживцами — братьями Гурьевыми, а те оказались смутьянами, желавшими свергнуть императрицу Екатерину II. Вот и доказывай теперь, что не виноват! А наказание за смутьянство куда суровее, чем за самокрутку. В основе романа, написанного классиком русской исторической прозы Евгением Салиасом, лежит малоизвестный эпизод правления Екатерины II — заговор гвардейцев во главе с братьями Гурьевыми и Петром Хрущёвым. Вдохновлённые успехом братьев Орловых, приведших Екатерину к власти, заговорщики решили совершить новый переворот, однако были арестованы вскоре после коронации Екатерины.