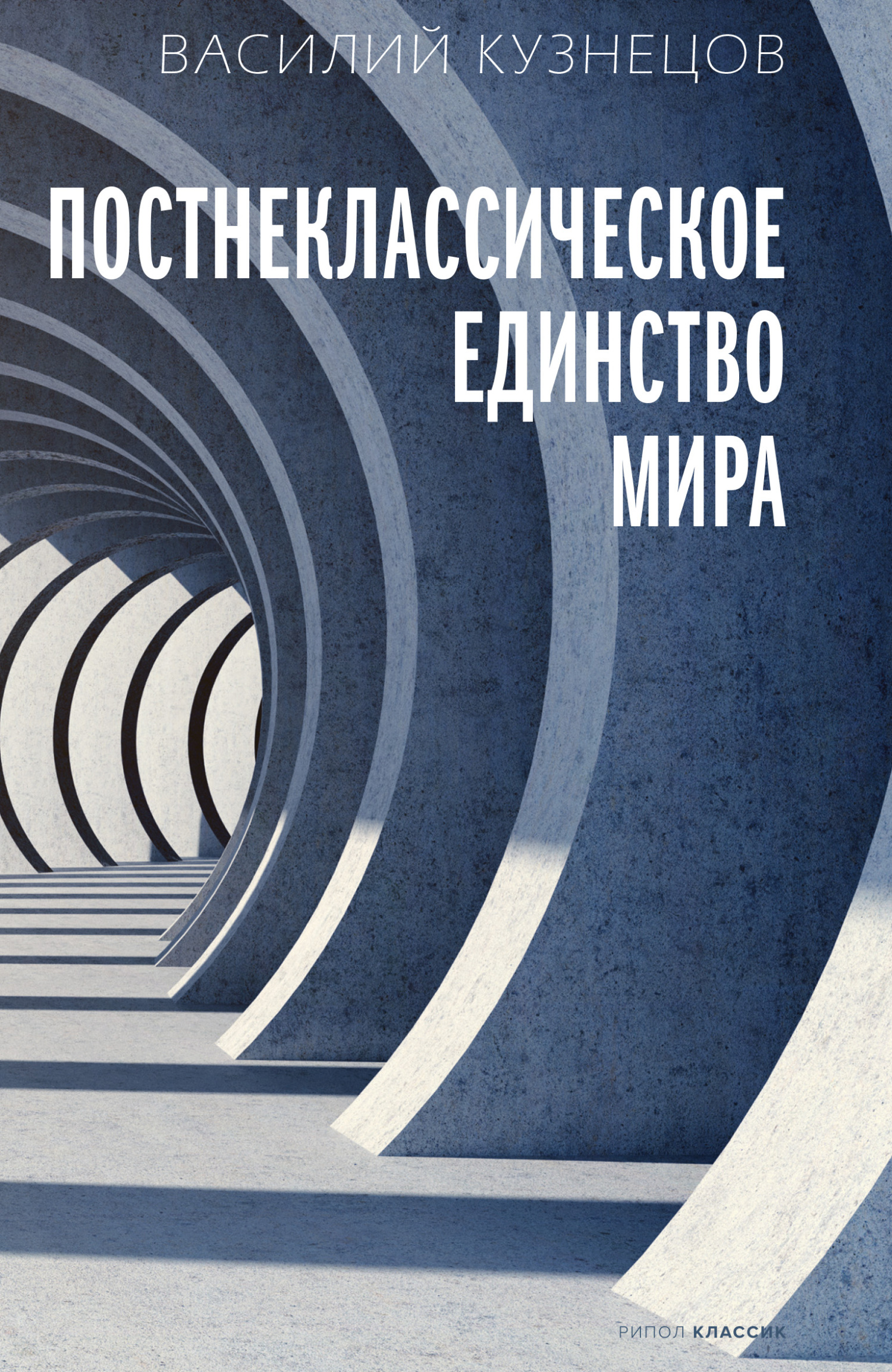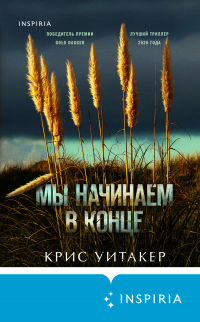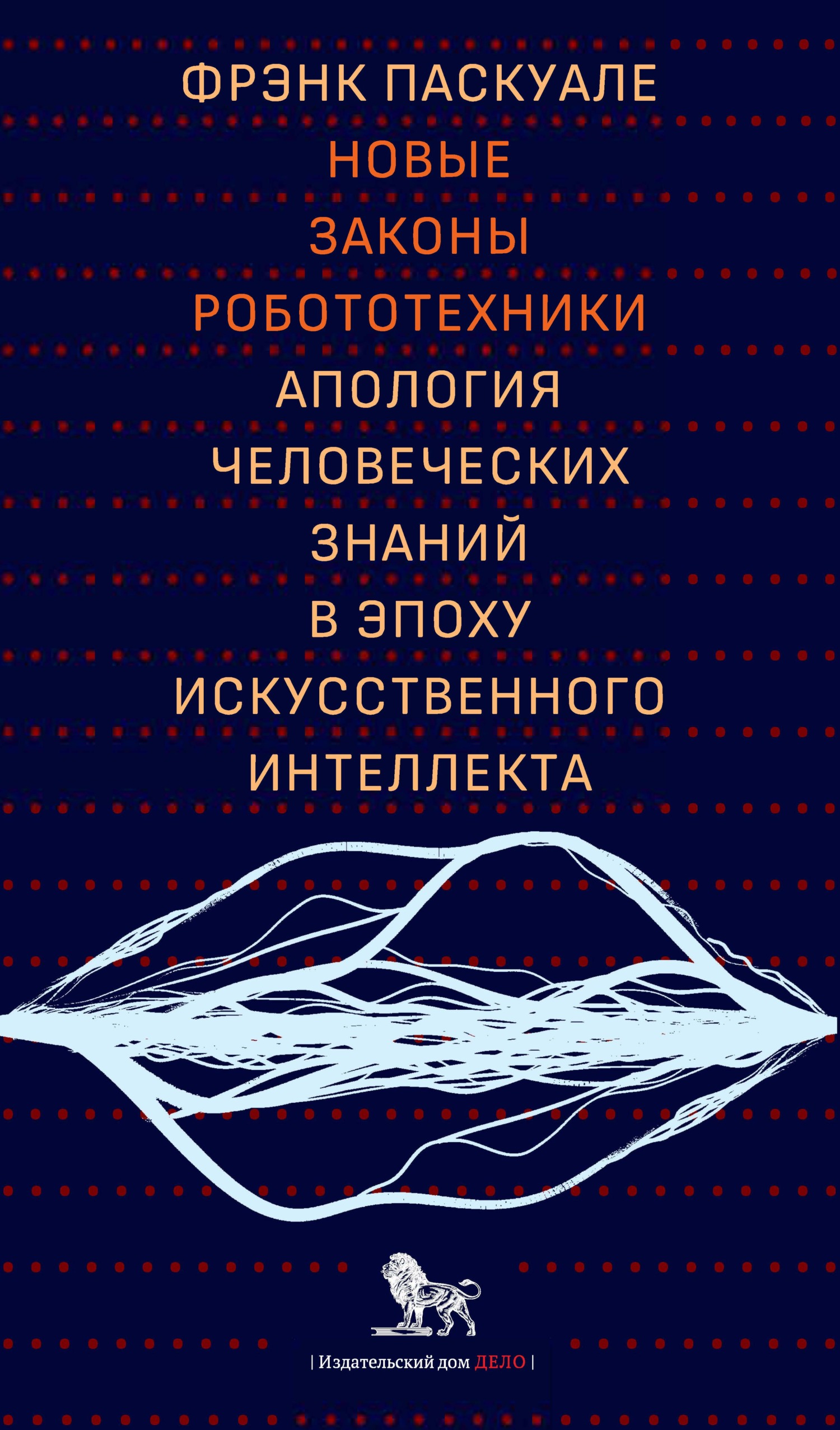Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Как сегодня говорить о единстве мира? Возможно ли охватить мыслью все многообразие разбегающихся в разные стороны концепций и культур? Современный отказ от господства тождества означает ли обязательно утверждение только различия? Как можно мыслить в постнеклассическую эпоху? Об этом и многом другом в книге Василия Юрьевича Кузнецова, кандидата философских наук, доцента кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ. Для специалистов в области философии, аспирантов и студентов, а также всех интересующихся современной мыслью. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Юрьевич Кузнецов»: