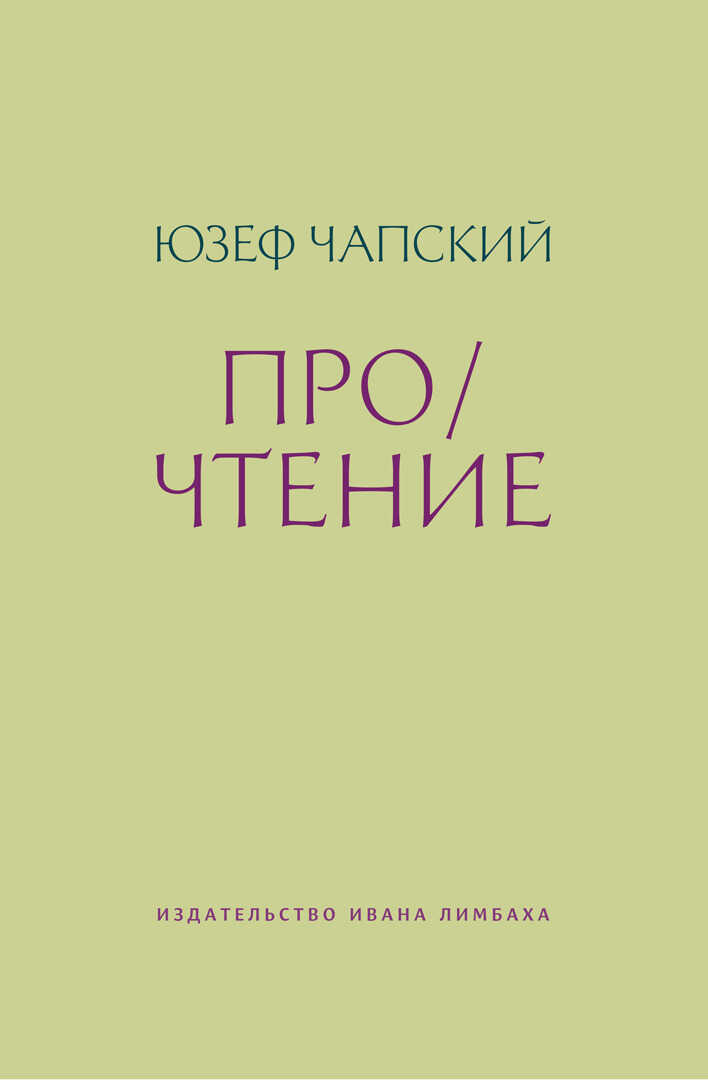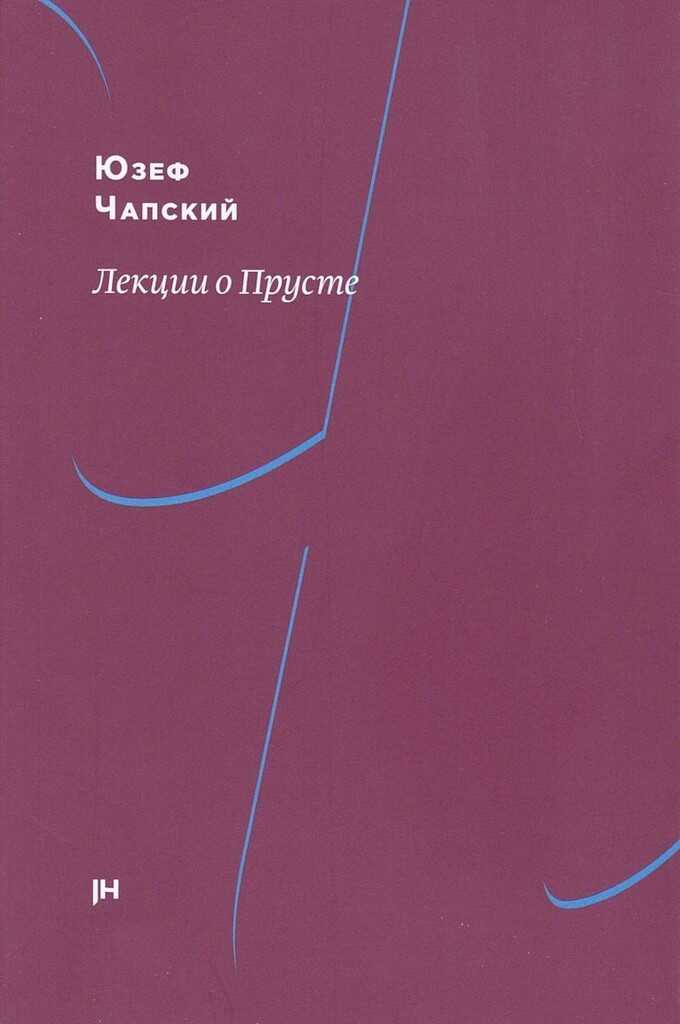Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга отправит читателя в изысканное путешествие по миру литературы. В ней представлена обширная подборка эссе, рецензий и портретов писателей, опубликованных в журналах «Белый орел» и «Kultura» на протяжении сорока лет.Широкий спектр интересов Юзефа Чапского – от Норвида до Милоша и других выдающихся писателей-эмигрантов – дополнен размышлениями о зарубежной литературе. В книге представлены портреты французских (Мориак, Пруст, Валери) и русских (Достоевский, Толстой, Розанов, Ремизов) писателей.Предельно личный тон, свободный стиль повествования, эрудиция и глубокие знания автора делают книгу превосходным чтением для любителей литературы и искусства.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юзеф Чапский»: