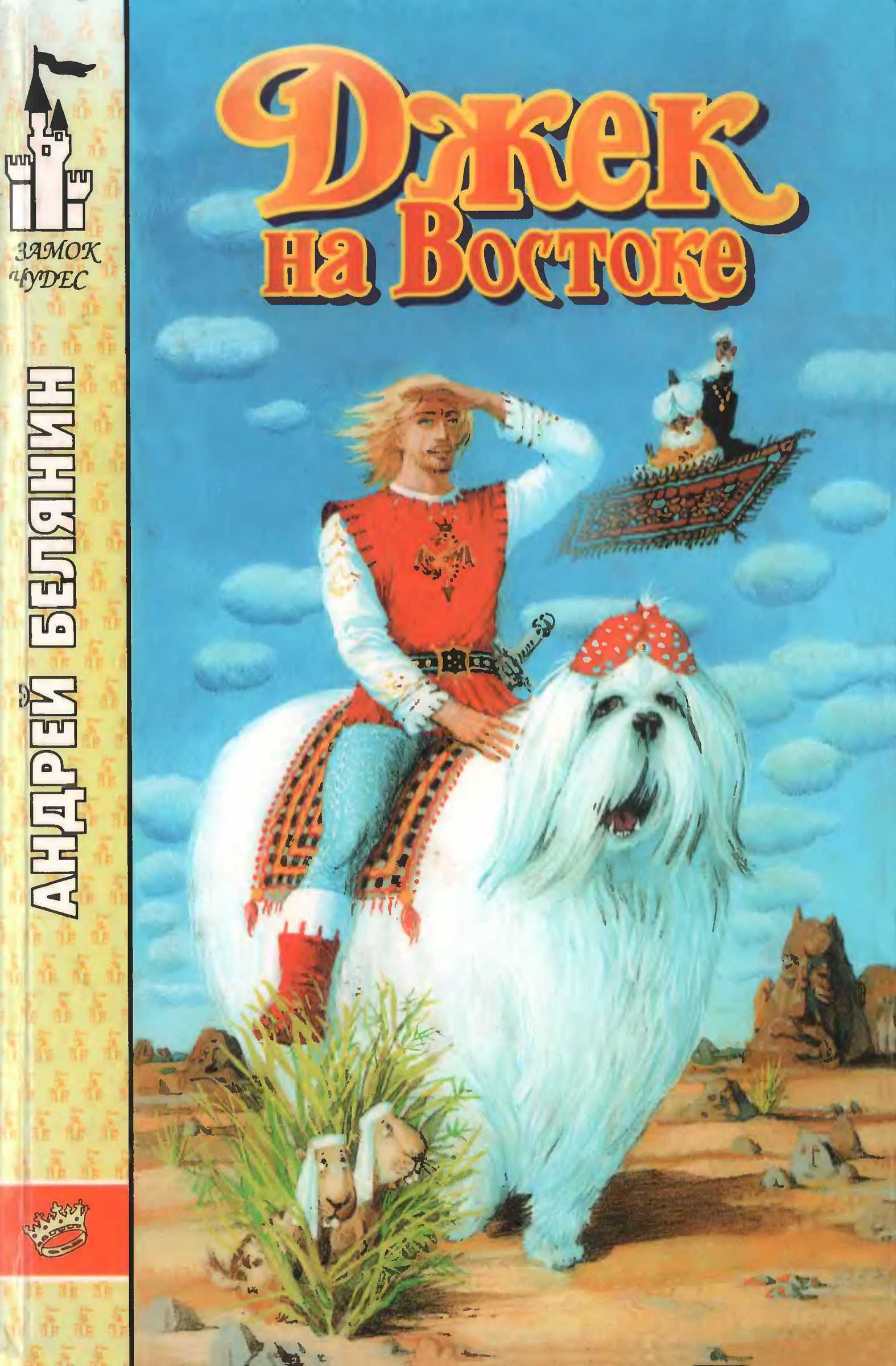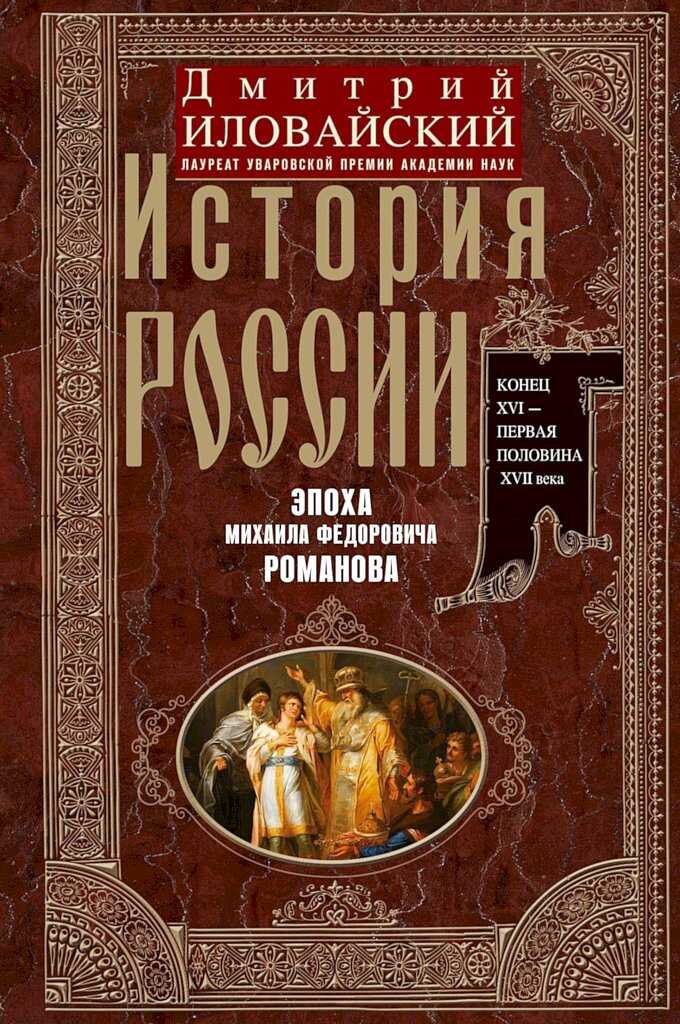Шрифт:
Закладка:
Содержание: 1. Оборотный город Нечистая сила на Руси никогда не переводится! Особенно у нас, в Оборотном городе, населённом ведьмами, бесами, упырями, колдунами и вурдалаками во главе с таинственной Хозяйкой. Вот и приходится нам, казакам, почти каждый день нагайкой да шашкой защищать от них честных людей. Или их от честных людей? Да когда как… А чтоб не обманываться и видеть нечисть под любой личиной, вам для начала должны плюнуть в глаз! Мне плюнули. Но зато и я им потом такое устроил…
2. Колдун на завтрак Нечистая сила пытается взять реванш, всей толпой охотясь на непокорного Илью Иловайского! Того самого, которому ведьма плюнула в глаз и теперь он нечисть сквозь любые личины видит и спуску никому не даёт! Ну удачи им в их безнадёжном деле… А в лихого героя, похоже, всерьёз влюбилась сама грозная Хозяйка Оборотного города. Скорей бы под венец, вот только надо быстренько разобраться со злобным цыганским колдуном, изгнать кусачее привидение, дать в рыло чёрту, утопить в сене мстительную хромую чародейницу, сунуть в психушку доцента-кровососа, порубить банду молдавских чумчар, отдавить хвост бесу, переломать дюжину скелетов, наказать зарвавшихся учёных и поджарить саму Смерть с косой… уф! Чего не сделаешь ради любимой девушки?
3. Хватай Иловайского! Война войной, а свадьба по расписанию! Расступись, нечисть поганая, когда сам Илья Иловайский жениться едет! Вот только надо успеть найти пропавшего курьера с царским приказом. Спасти весь полк от превращения в чумчар. Взорвать деревенский сортир. Выдать кровососку бабку Фросю замуж за трёх женихов сразу. Вырвать из лап упырей младшую дочку губернатора. Выбить зубы потомку Дракуляр. Получить работу в светлом будущем. Послать их с этой работой. Победить всех! Выслушать вопль дяди-генерала: «Иловайский, мать твою-у-у!» Да ещё раскрыть тайну Хозяйки Оборотного города…