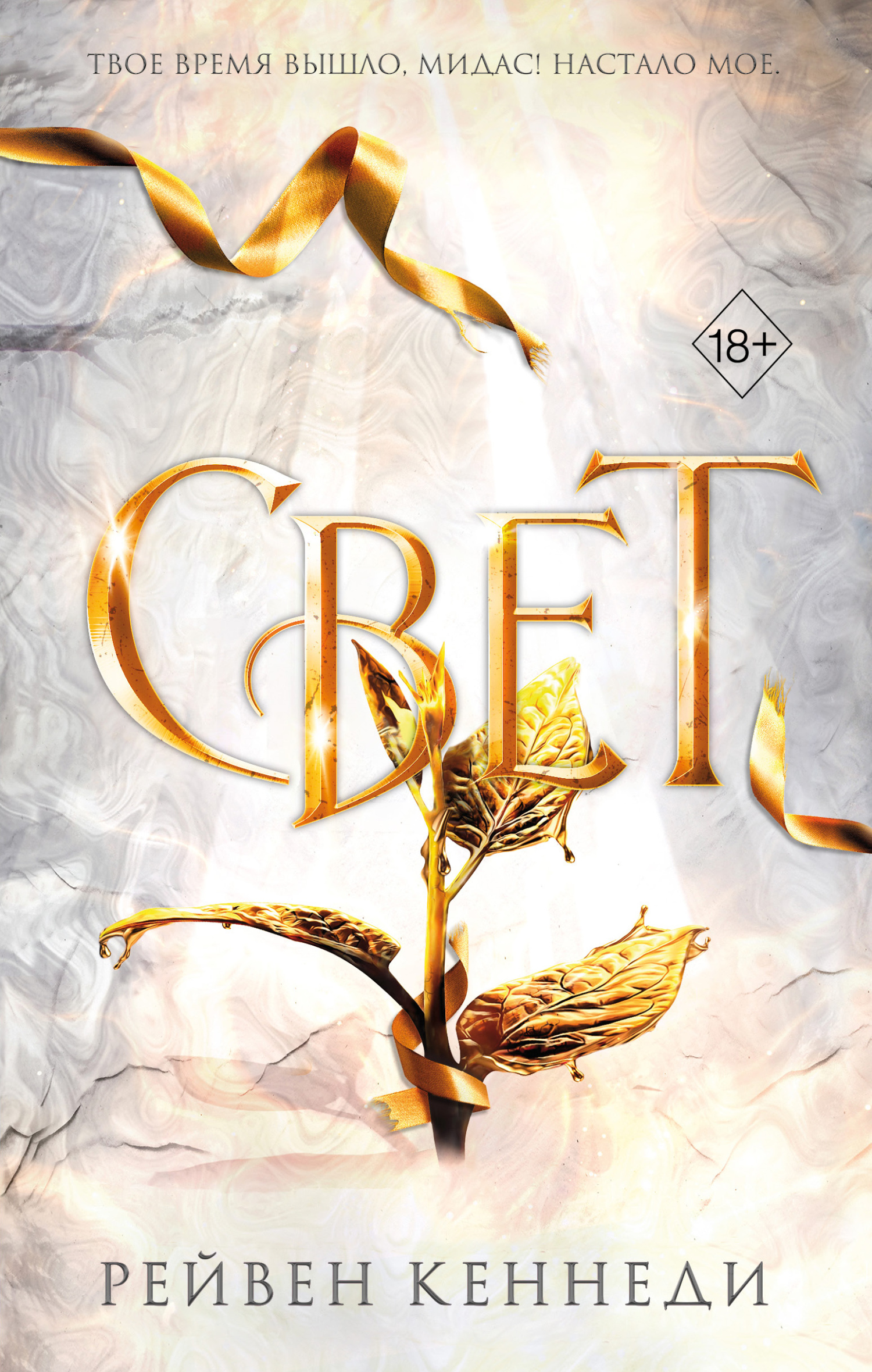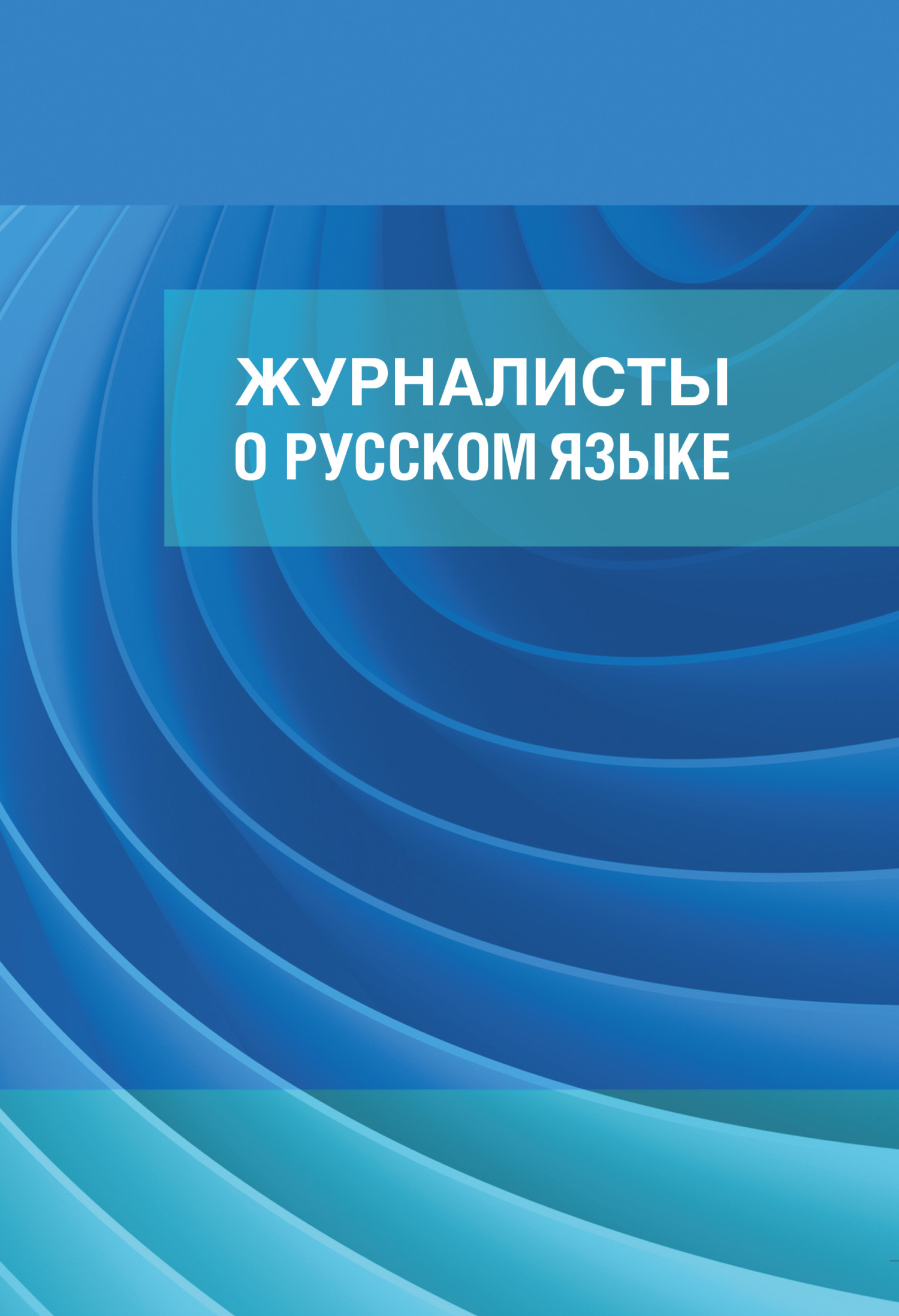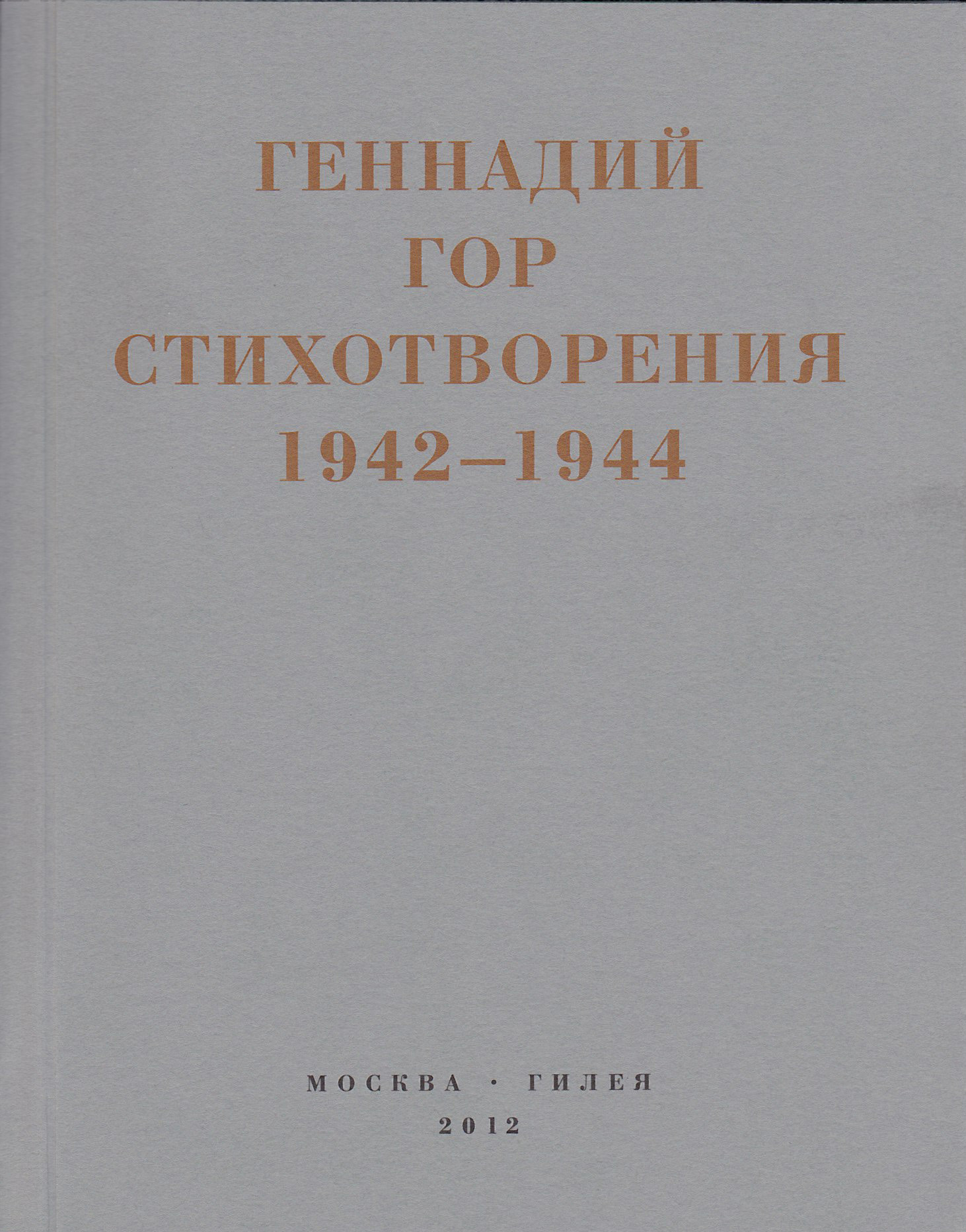Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Жизнь – золотая ложь. Смерть – сплошная гниль.Подобно фениксу, мне предстоит восстать из пепла и научиться владеть своей силой. Пускай с подрезанными крыльями, самое главное – что я больше не в клетке. Свободна и готова выпорхнуть из всех королевств, в которых меня удерживали!Если ты бросаешь вызов королю, то все остальные отворачиваются от тебя.Но у меня есть другой король. Мой.Правда, несмотря на устрашающую силу Слейда Ревингера, другие монархи все равно придут за мной.Поэтому мы с Ревингером будем сражаться друг за друга до последней минуты. И если нам придется стать злодеями, то так тому и быть.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Рейвен Кеннеди»: