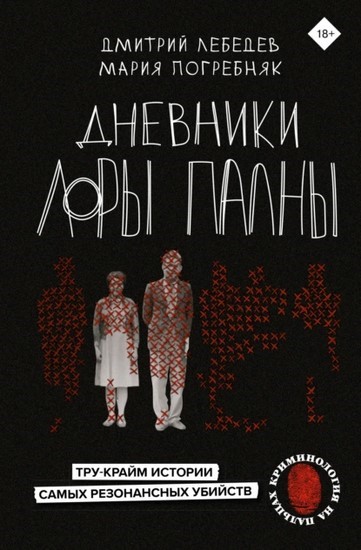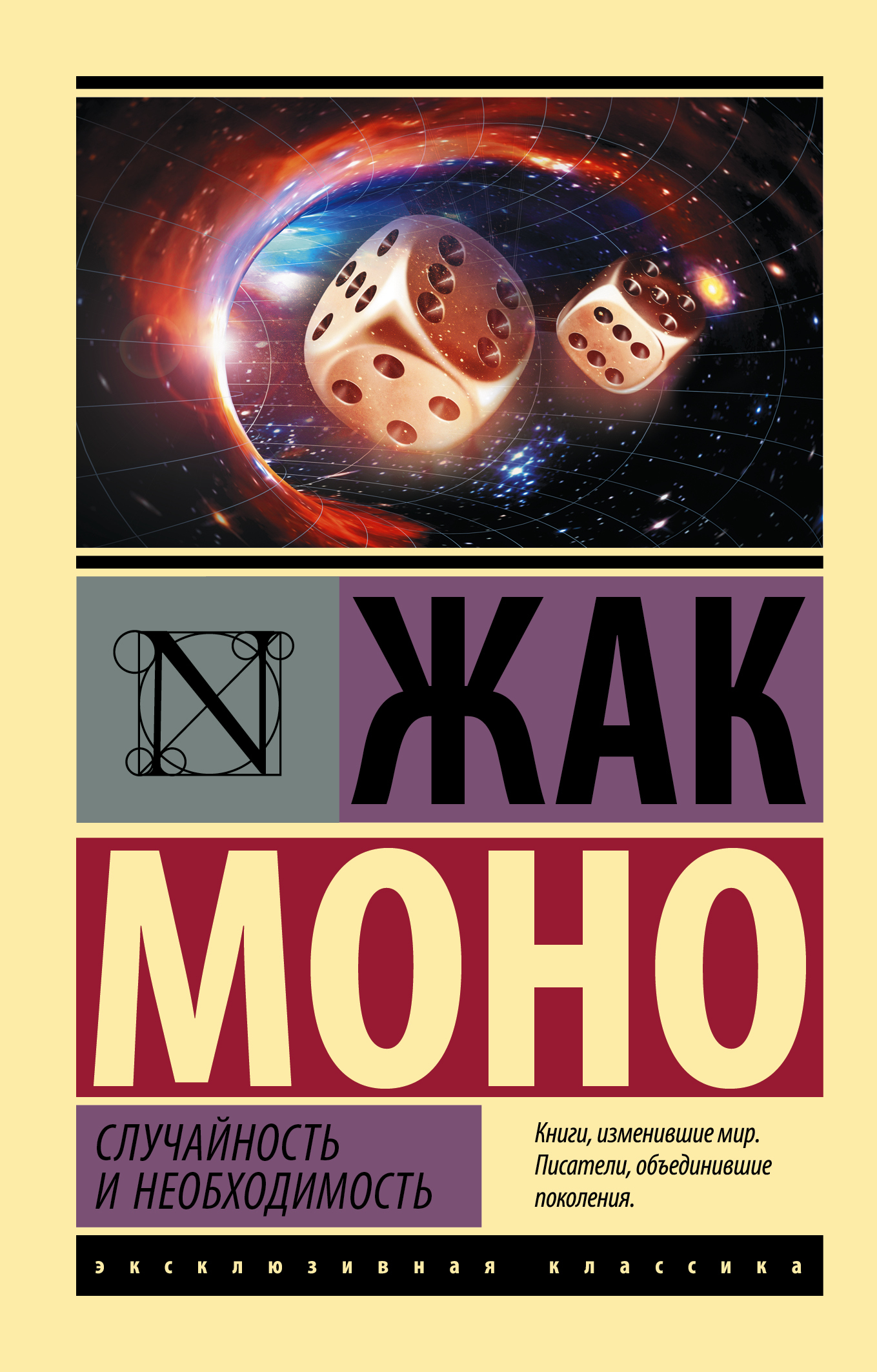Шрифт:
Закладка:
Книга философа и психоаналитика Александра Смулянского посвящена исследованию сопряжения между метафорой Отца и инстанцией «желание аналитика». Жак Лакан, проводивший такое исследование в середине XX века, не представил его результаты в связи с изгнанием в 1963 г. из Международного психоаналитического сообщества и лишением права готовить аналитиков. Так и не прорисованное сопряжение между отцовской метафорой и инстанцией «желание аналитика» привело к тому, что аналитический дискурс вскоре после смерти Лакана претерпел слияние с дискурсом университета, в котором это желание заняло служебное место в качестве одного из регуляторов поведения аналитика на сессиях, а затронутый Лаканом вопрос о его неприрученных и неисследованных источниках был снят с повестки. Цель книги – вернуться к этому вопросу, проследить происхождение желания аналитика из желания Фрейда и исследовать на этой основе причины возникновения психоаналитической практики, одновременно обосновывая неустранимость ее непрекращающихся внутрицеховых конфликтов.Издание адресовано психологам, психоаналитикам, философам, исследователям культуры.