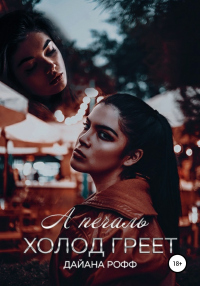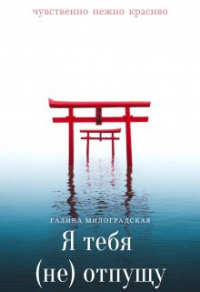Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В темном и пустом незнакомом городе приходит в себя девушка. Она не знает своего имени и ничего не помнит о себе. Кто она и почему оказалась в этом странном, пугающем месте? До захода солнца она должна вспомнить прошлое и найти ответы на свои вопросы, иначе тьма заберет ее навсегда.Для кого эта книгаДля поклонников книг Young Adult.Для всех, кто любит истории, в которых мистика переплетается с реальностью.Для поклонников книг «Милые кости» Элис Сиболд, «Если я останусь» Гейл Форман, «Прежде чем я упаду» Лорен Оливер, «Воскресни за 40 дней» Медины Мирай.Для тех, кому хочется почитать хорошую книгу современного российского автора.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Наталья Ильина»: