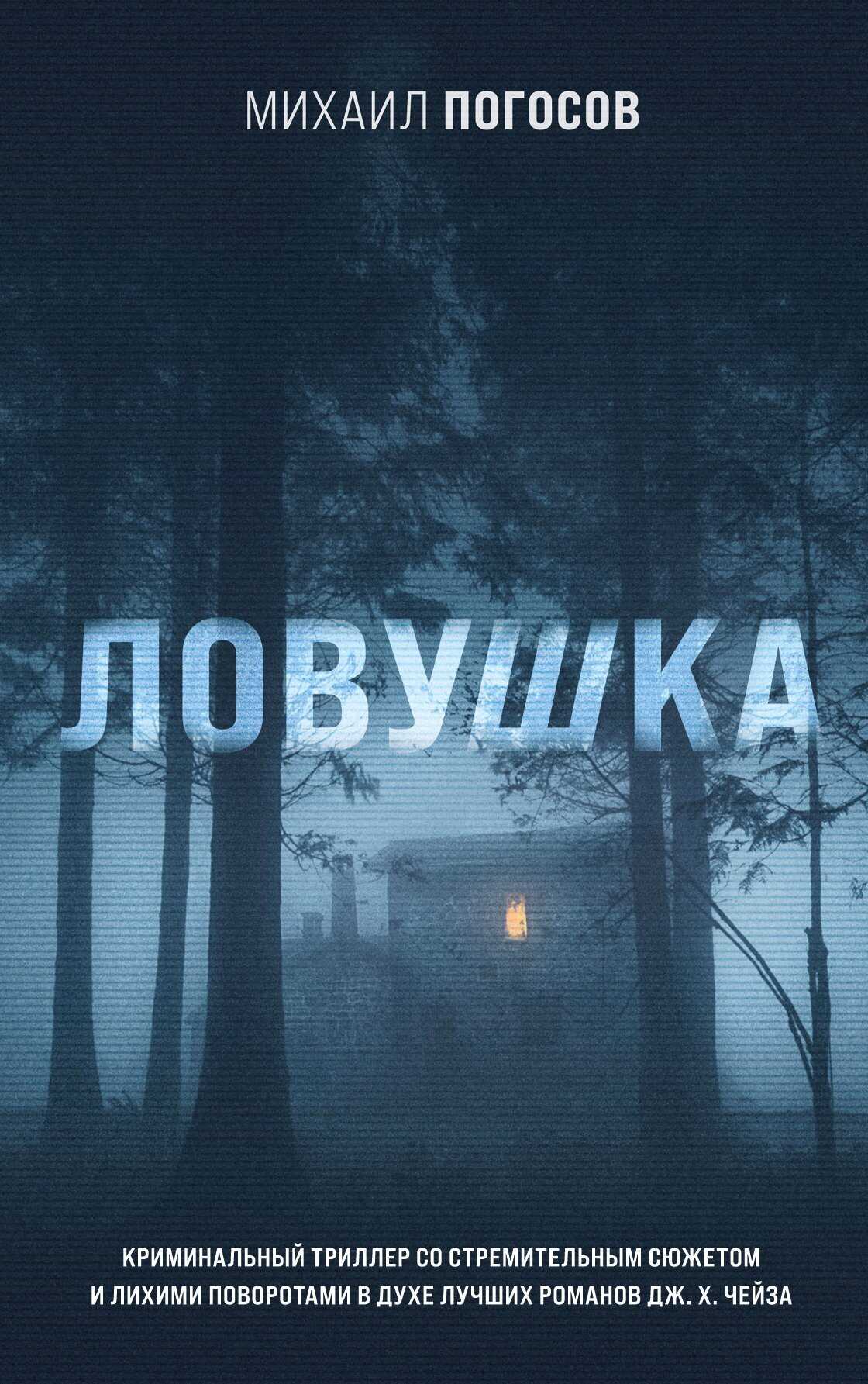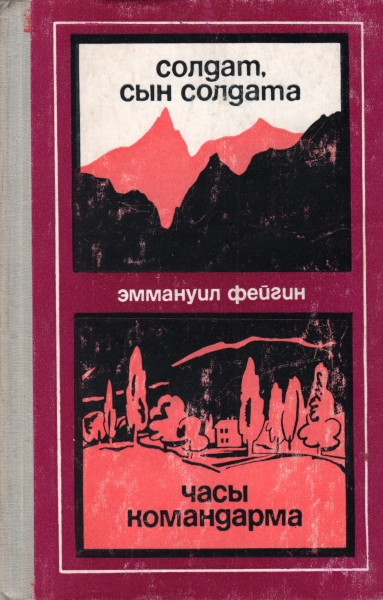Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Москва, 1961 год. В руки Виктору Хрусталеву, талантливому оператору с «Мосфильма», попадает сценарий его погибшего друга. Виктор уверен, что это шедевр, который обязательно должны увидеть зрители. Вместе с молодым режиссером Егором Мячиным они принимаются за работу. Но ведь это кино! Здесь нельзя без порыва, страсти и… любви. Волей судьбы Виктор и Егор влюбляются в одну и ту же девушку, милую и робкую Марьяну. Художественное оформление серии А. Старикова.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирина Лазаревна Муравьева»: