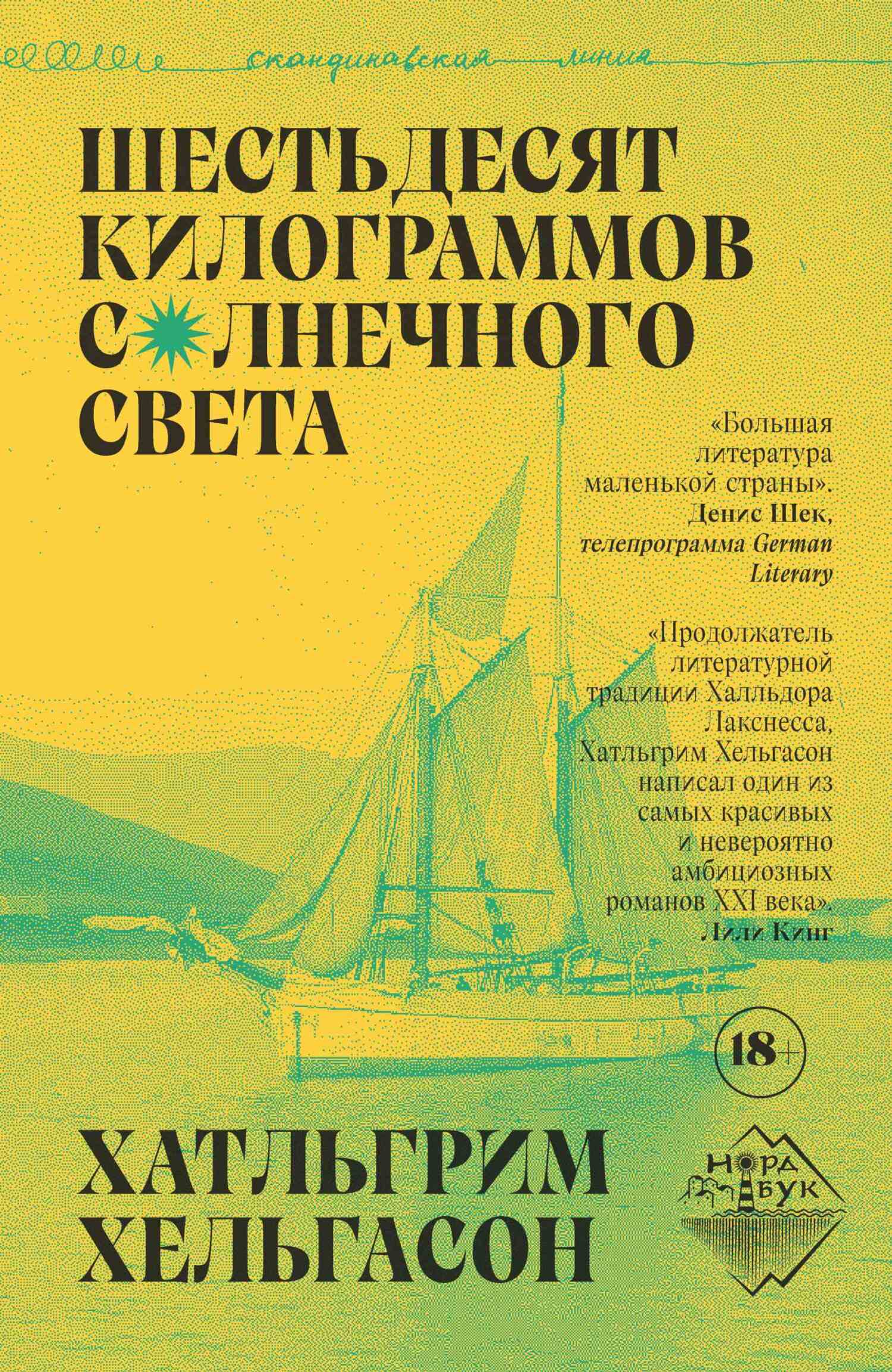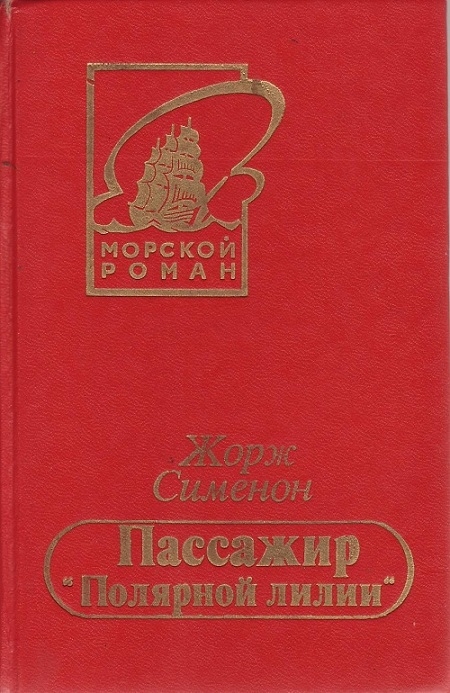Шрифт:
Закладка:
Одна из самых известных в мире книг о Великой Отечественной войне. Впервые вышла в Англии в 1964 г., затем в США, Франции, ФРГ и других странах. По общему мнению, она «открыла глаза» западным читателям на подлинные события, происходившие на Восточном фронте и в России.Корреспондент британской газеты «Санди тайме» и радиокомпании ВВС (Би-би-си) Александр Верт (1901 – 1969) хорошо знал русский язык и находился в СССР с июля 1941 по 1946 год, а потом по собственным впечатлениям, документам и другим первоисточникам написал эту, по его словам, «человеческую историю». «Я делал все, что было в моих силах, чтобы рассказать Западу о военных усилиях советского народа», – отмечал Верт. Автор честно и откровенно с портретами, зарисовками, бытовыми подробностями рассказывает о Великой Отечественной войне. Он не был сторонним наблюдателем, он переживал – за нашу страну и живущих в ней людей…В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.