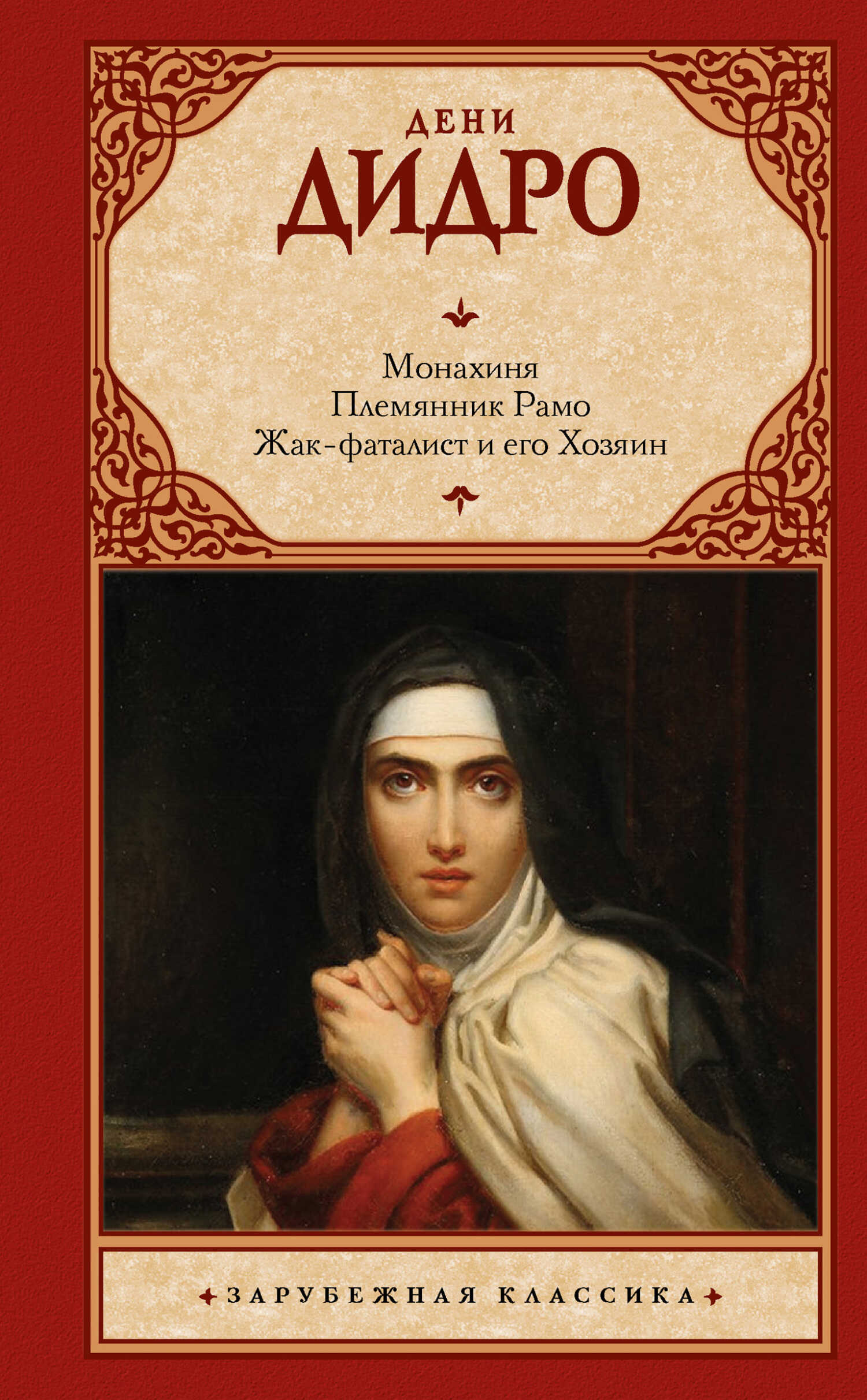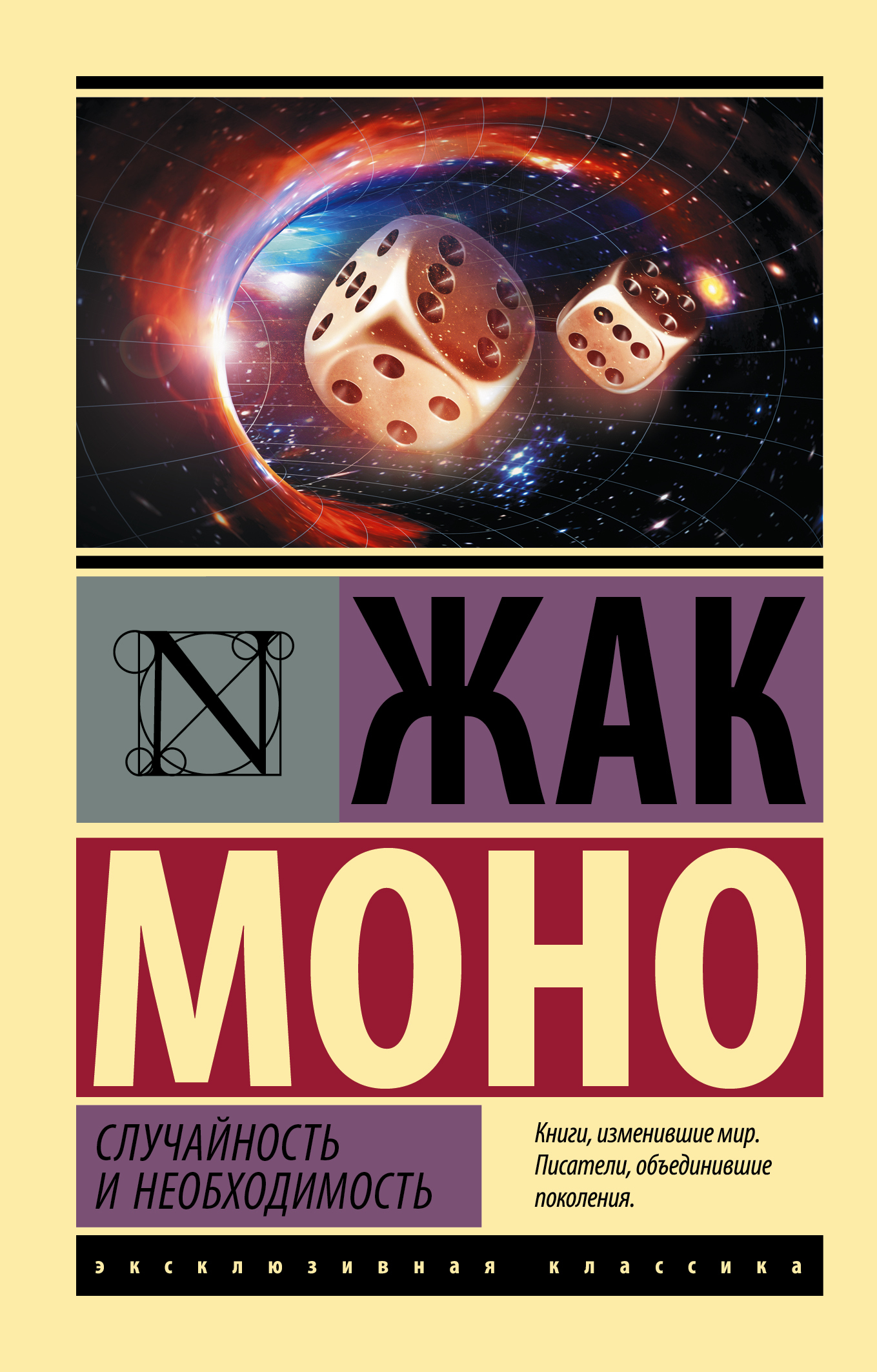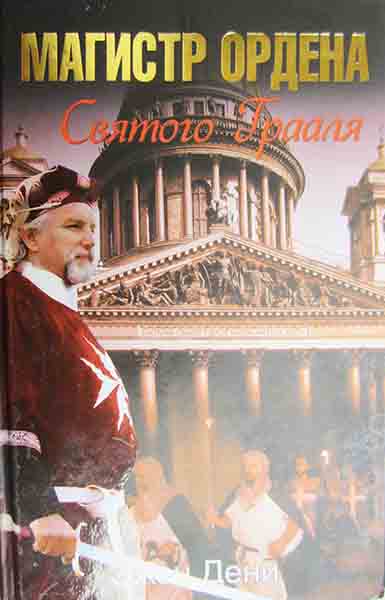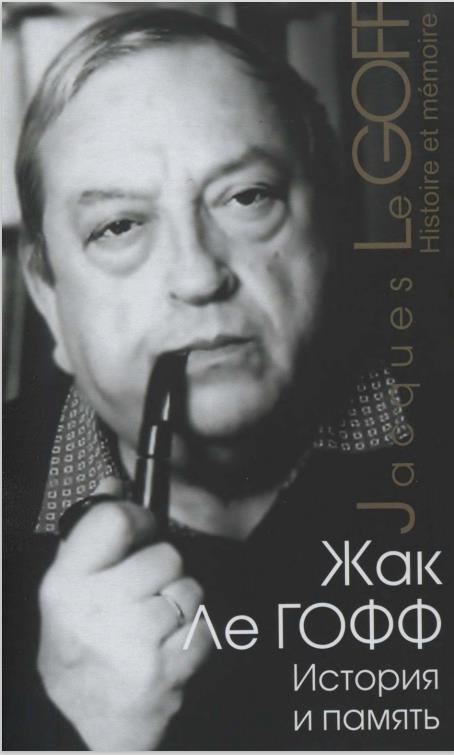Шрифт:
Закладка:
Юная Сюзанна против воли вынуждена принять постриг и уйти в монастырь. К своему ужасу, чистая и искренне верующая девушка понимает, что в стенах святой обители царят жестокость, злоба и деспотизм и лишь немногие монахини посвящают жизнь искреннему служению Господу. Не в силах терпеть подобное положение, Сюзанна решает любой ценой обрести свободу.Из-за ярко выраженного антиклерикального настроя роман «Монахиня» не был издан при жизни автора – книга вышла спустя десять лет после смерти Дидро, в разгар Французской революции. Публика оценила произведение по достоинству, и «Монахиня» заслуженно заняла место среди лучших произведений писателя.В это издание также вошли романы «Племянник Рамо» и «Жакфаталист и его Хозяин». Оба произведения тоже были опубликованы уже после смерти автора и отражали философские взгляды Дидро и его неприязнь к аморальности, цинизму и эгоизму современного ему французского общества.