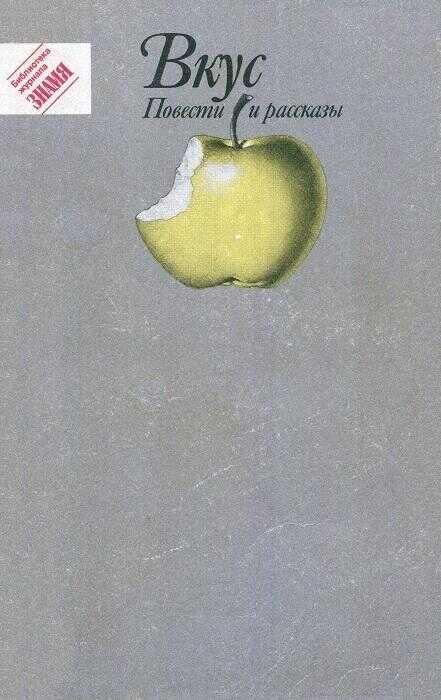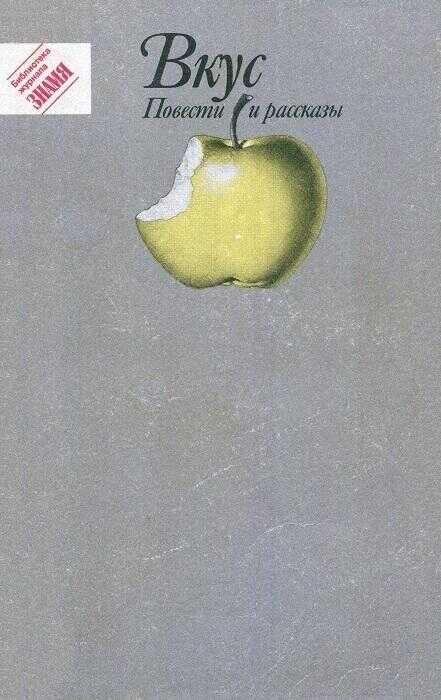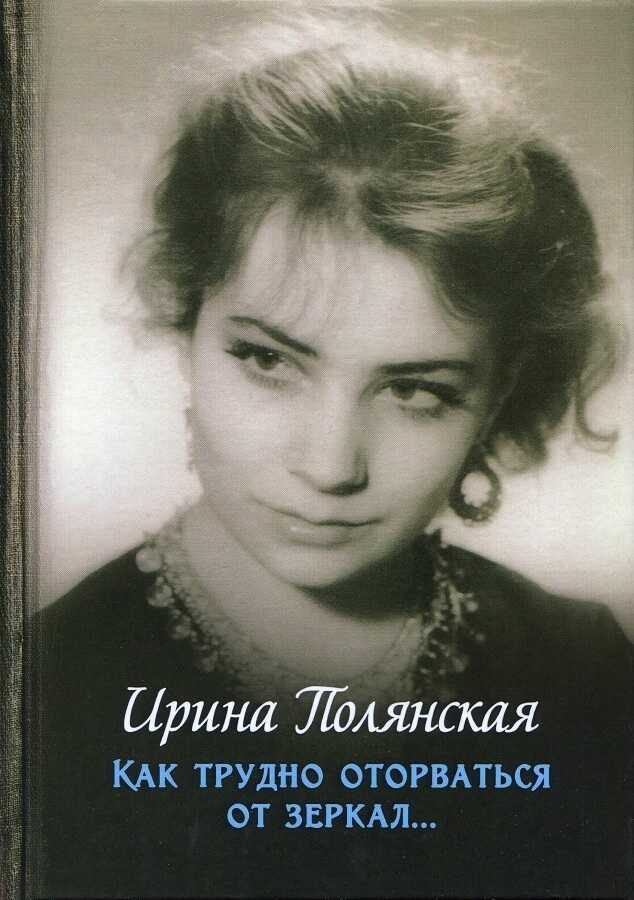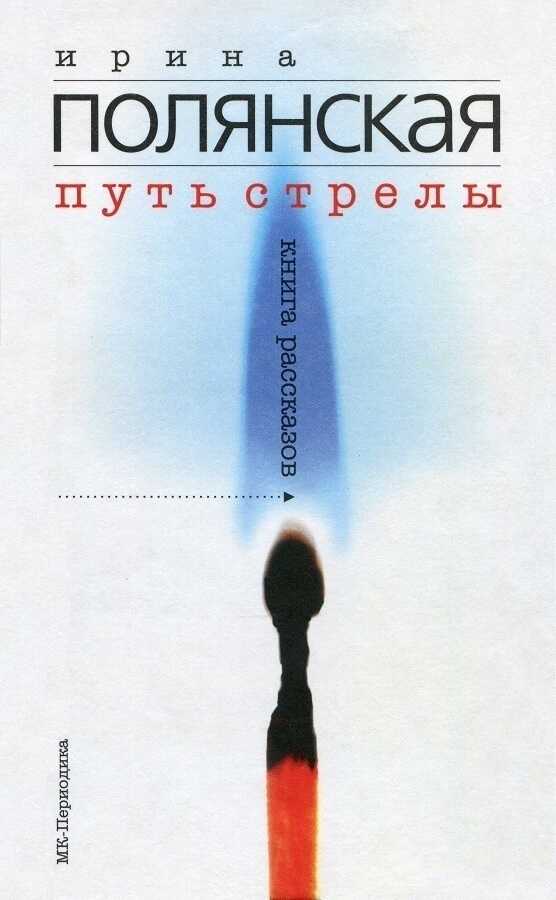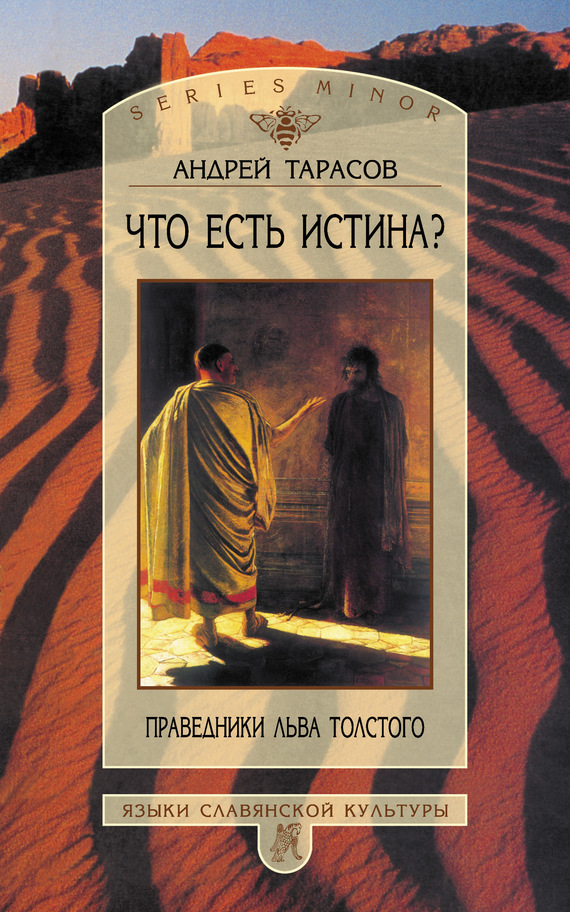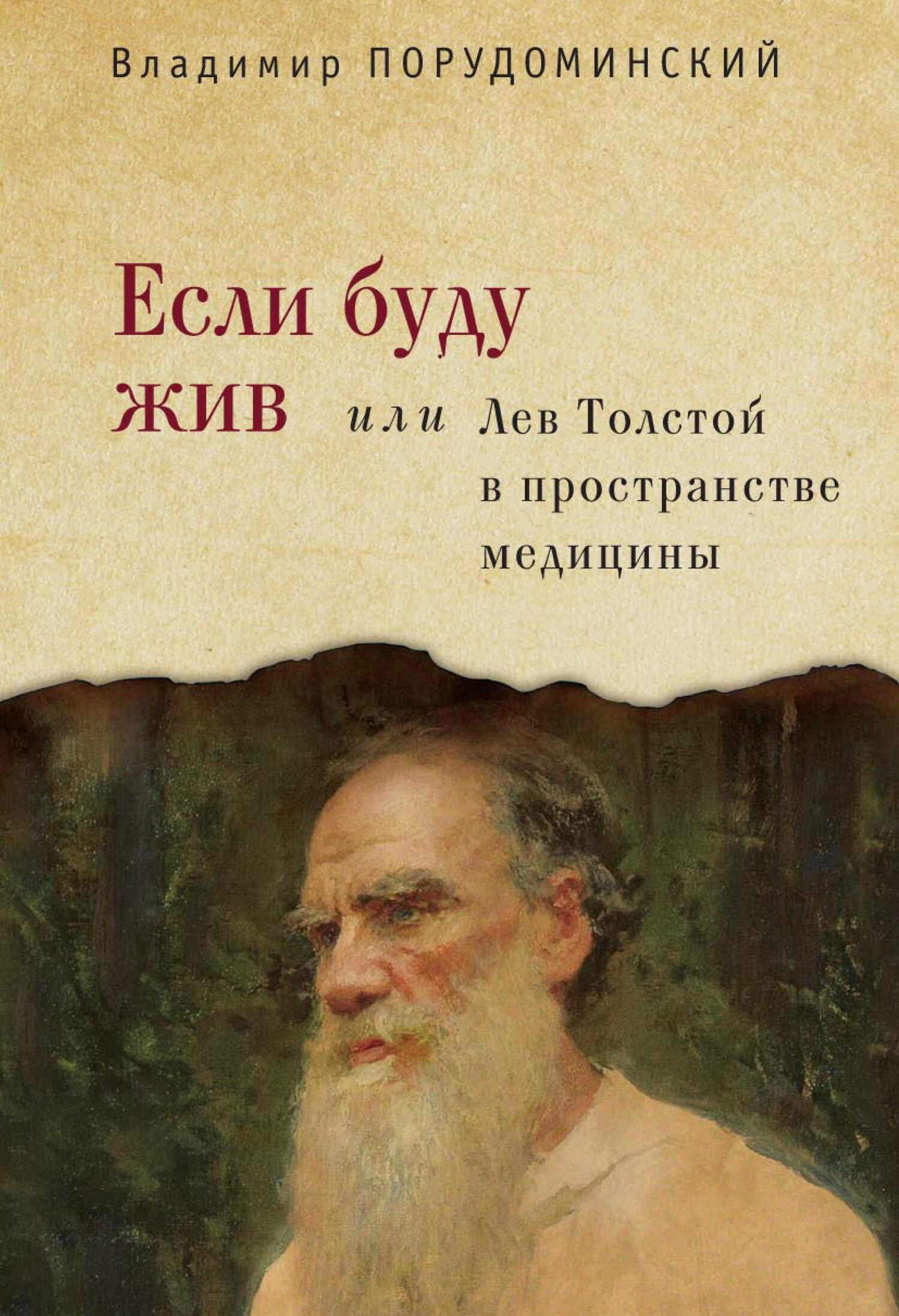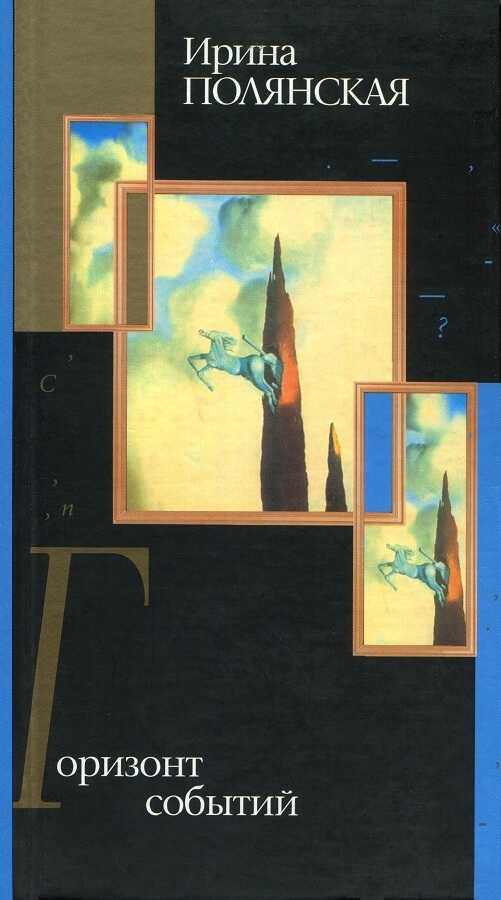Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Ирина Полянская родилась на Урале. Закончила училище искусств, актерское отделение в городе Ростове-на-Дону и Литературный институт имени Горького. Работала концертмейстером, санитаркой в отделении травматологии, корреспондентом в газете, литконсультантом. Печаталась в журналах «Аврора», «Литературная учеба». В книгу Ирины Полянской вошли произведения, посвященные жизни и нравственным исканиям молодежи. Автор исследует проблемы современной семьи, внутрисемейных отношений, ответственности старших за воспитание молодого поколения, вступающего в жизнь.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирина Николаевна Полянская»: