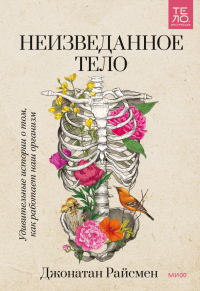Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Отто фон Бисмарк (1815–1898) – первый канцлер Германской империи, повлиявший не только на формирование единого германского государства. Следствием его стратегических замыслов и поступков во многом стала перекройка карты Европы в целом. Ученые разных стран сходятся во мнении, что современная Германия является стержнем нынешнего Евросоюза именно благодаря Бисмарку.Мемуары Отто фон Бисмарка подробно рассказывают о личности Железного канцлера и о том вкладе, который он внес в политическую жизнь Европы. «Железность» будущего канцлера не появилась сама собой. Бисмарку на его жизненном пути пришлось преодолеть то, с чем мы сталкиваемся и сегодня: предательство друзей, клевету, несправедливость, травлю, лицемерие. Человек гордый и амбициозный, он умел быть преданным императору и нации, но даже им не прощал нанесенных обид…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Отто фон Бисмарк»: