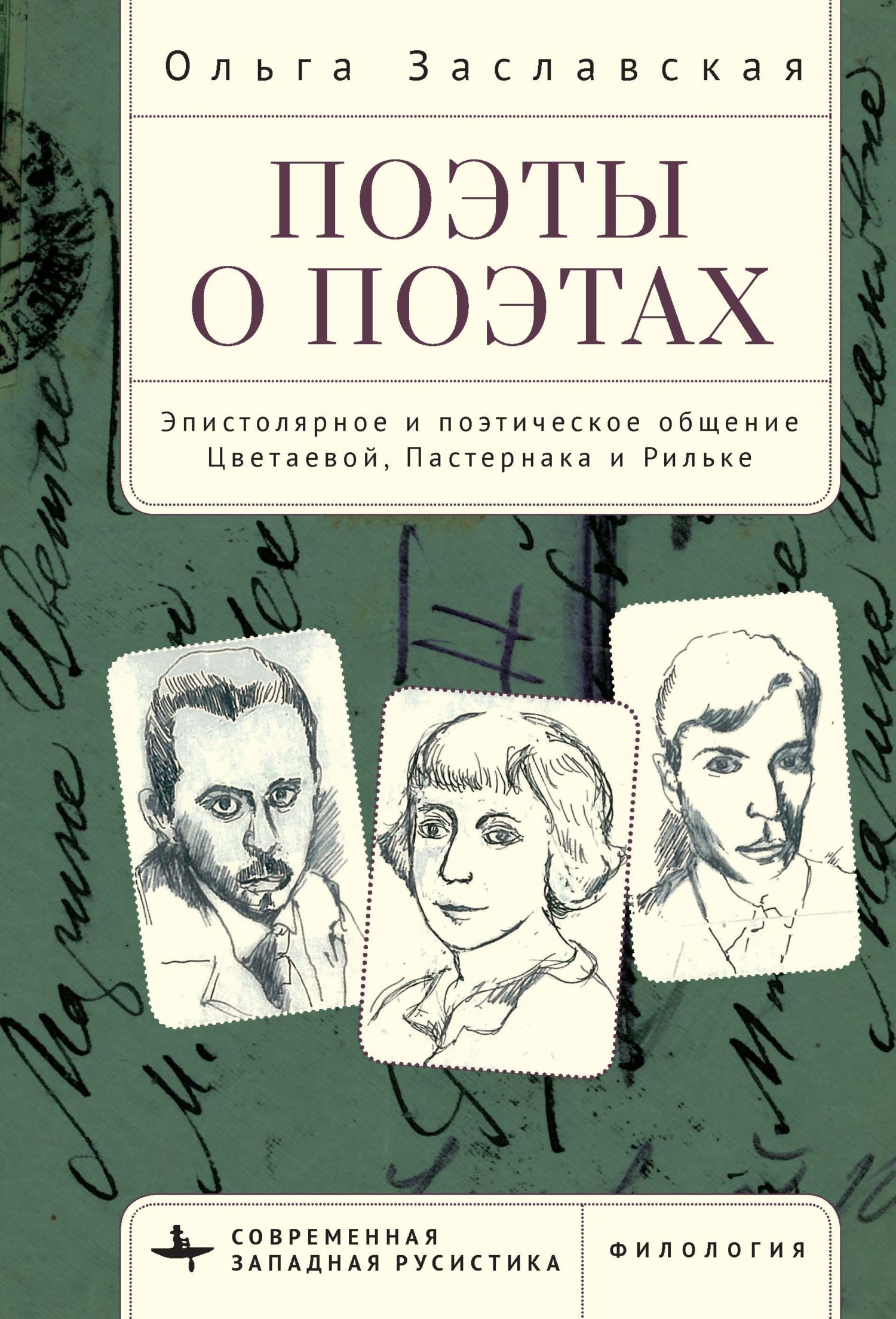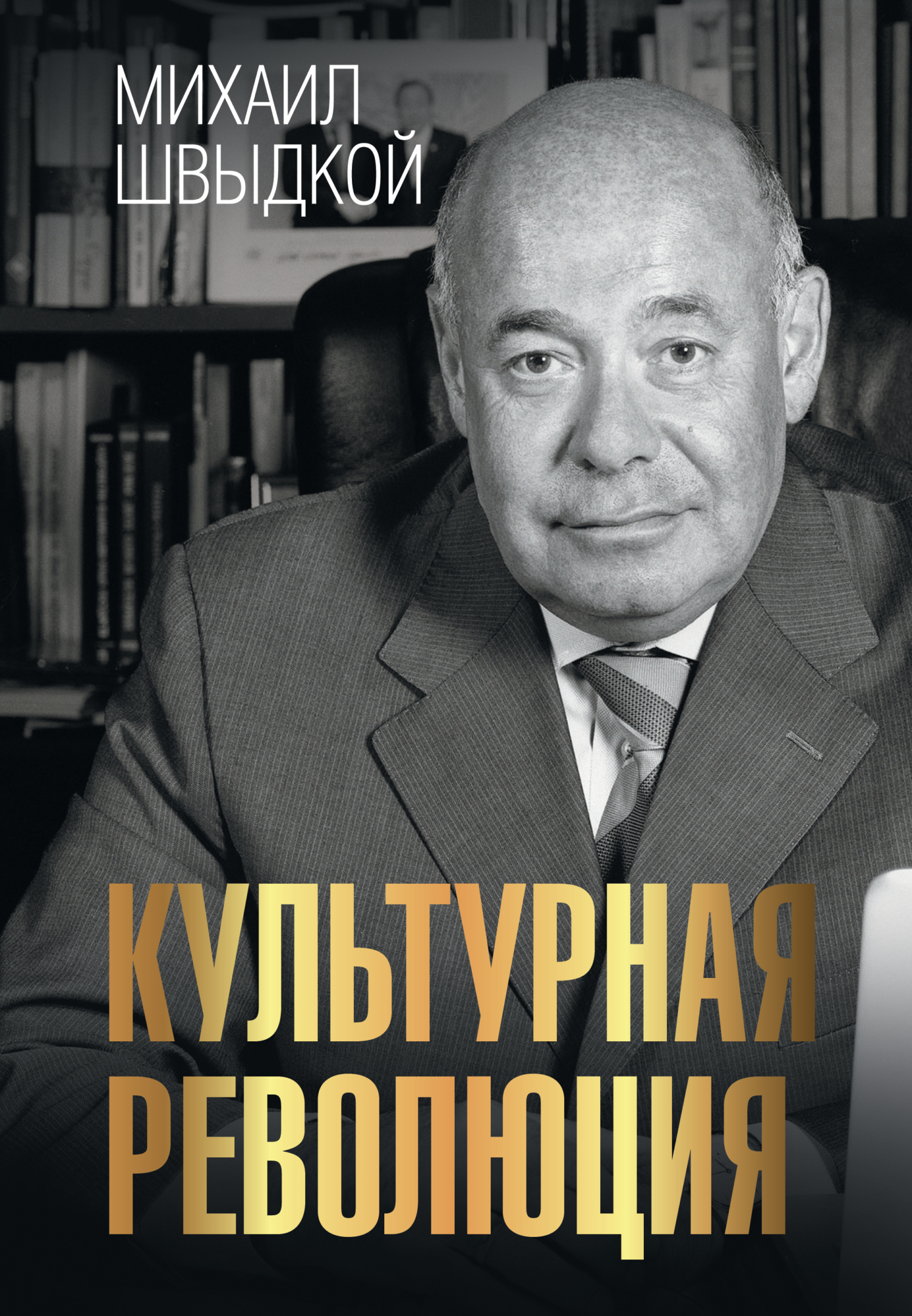Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Дмитрий Алексеевич Мачинский (1937–2012) — петербургский историк, археолог, многолетний сотрудник Эрмитажа, знаток русской культуры и литературы. В книгу вошли все его обнаруженные на сегодняшний день работы, посвященные русским поэтам: А. Пушкину, М. Цветаевой, А. Блоку, А. Ахматовой, М. Волошину. При жизни автора ни одна из них не была опубликована.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дмитрий Алексеевич Мачинский»: