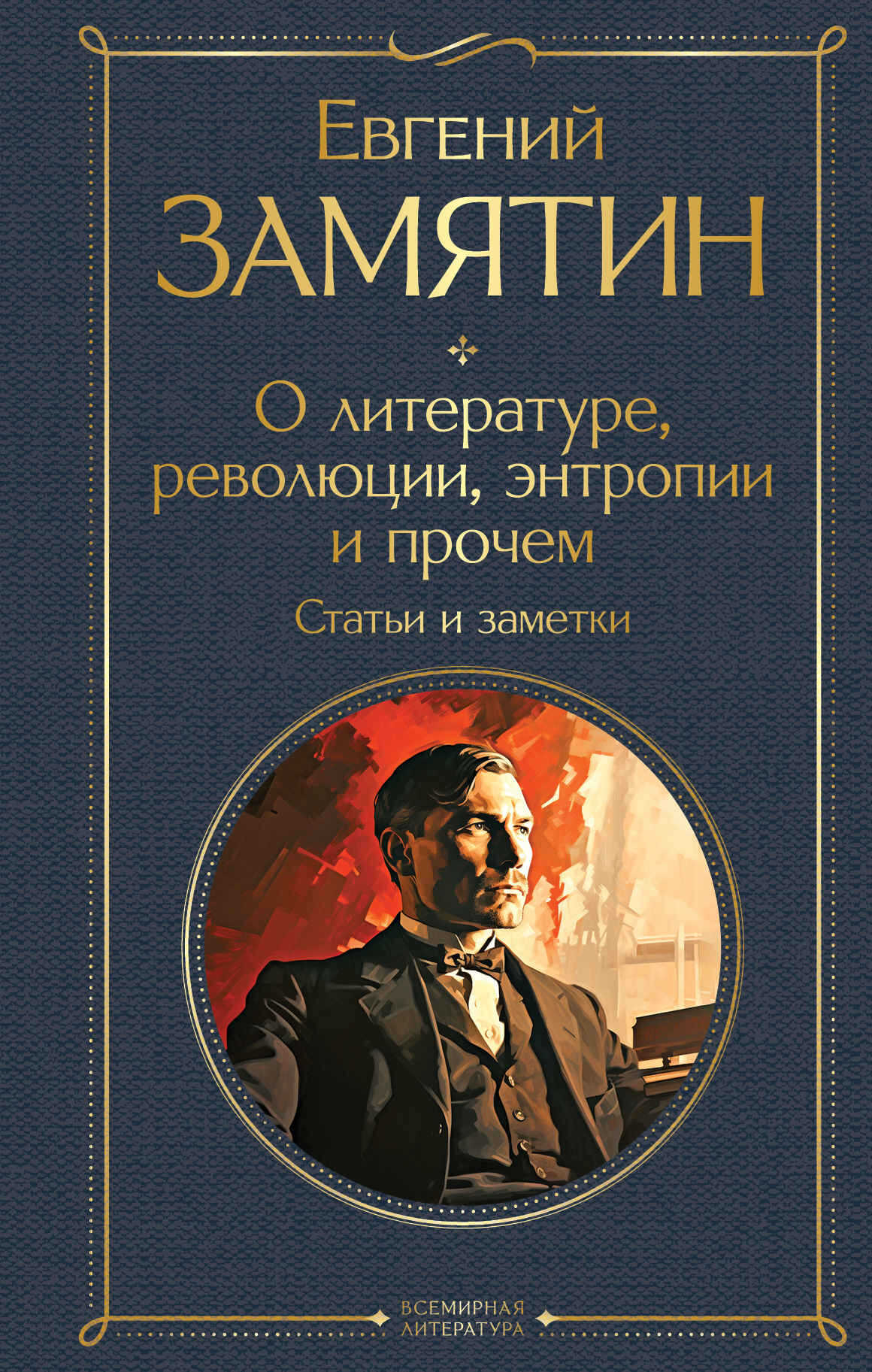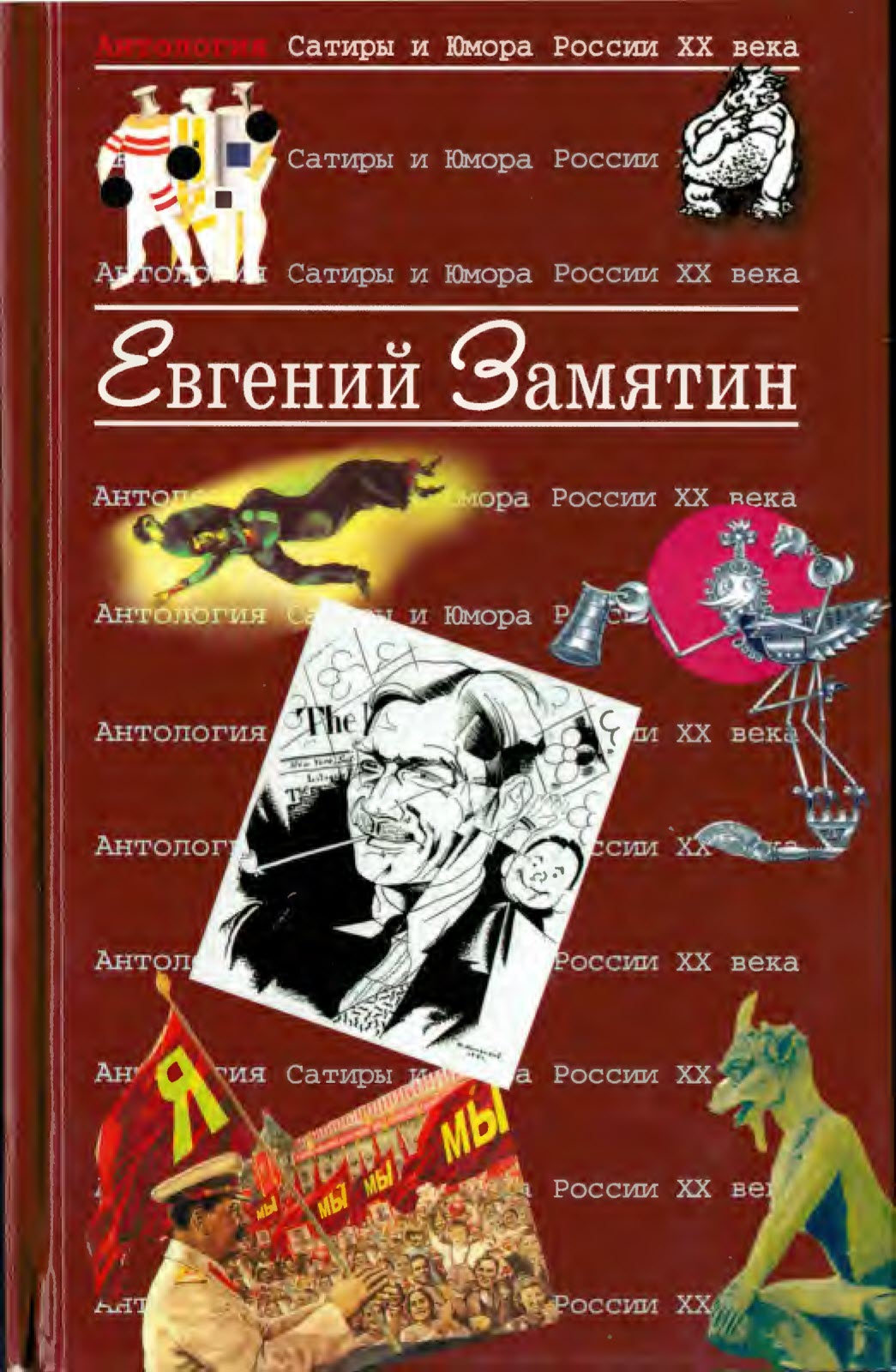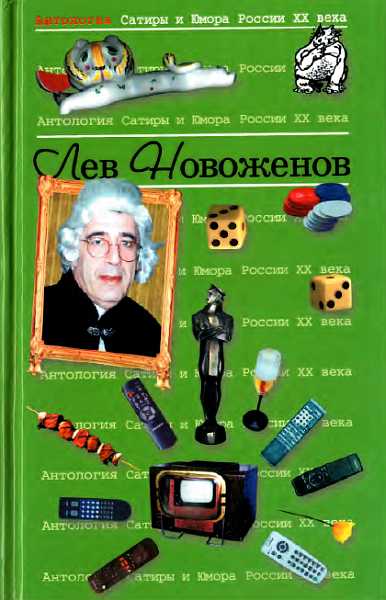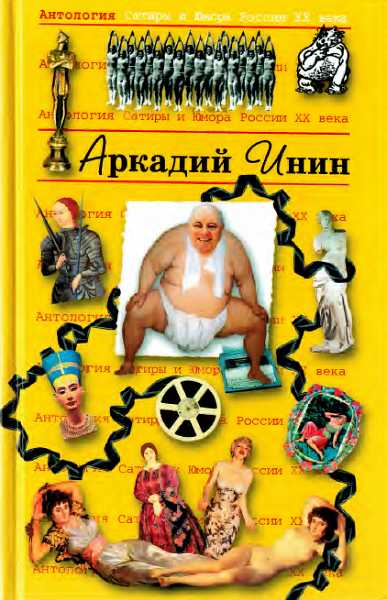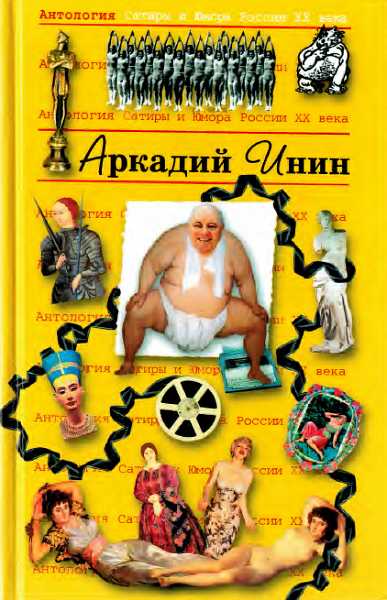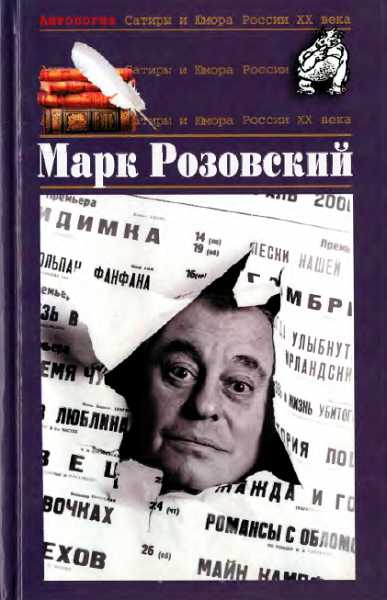Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мегапроект «Антология сатиры и юмора России XX века» — первая попытка собрать воедино творения лучших сатириков и юмористов уходящего столетия.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Евгений Иванович Замятин»: