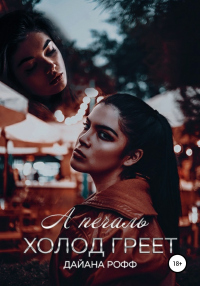Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Кошмары и реальность, ангелы и демоны, смешные инопланетяне и злые люди – все они живут рядом с нами. Надо только повернуть голову и заметить, что один твой сосед – несостоявшийся Достоевский, другой – воплощение ужаса, яблоки не всегда полезны, а все грехи будут искуплены кровью.Содержит нецензурную брань.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юрий Мори»: