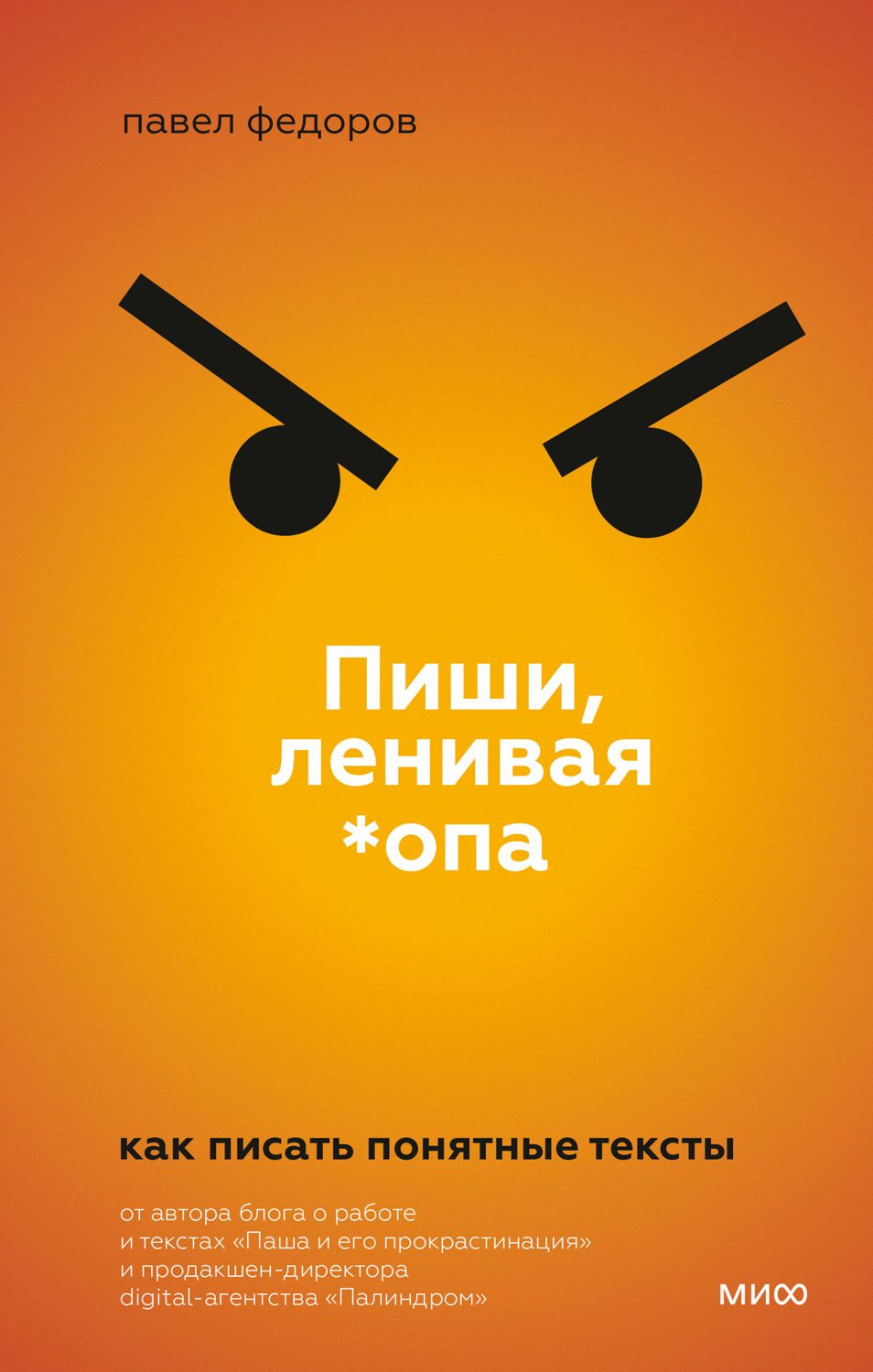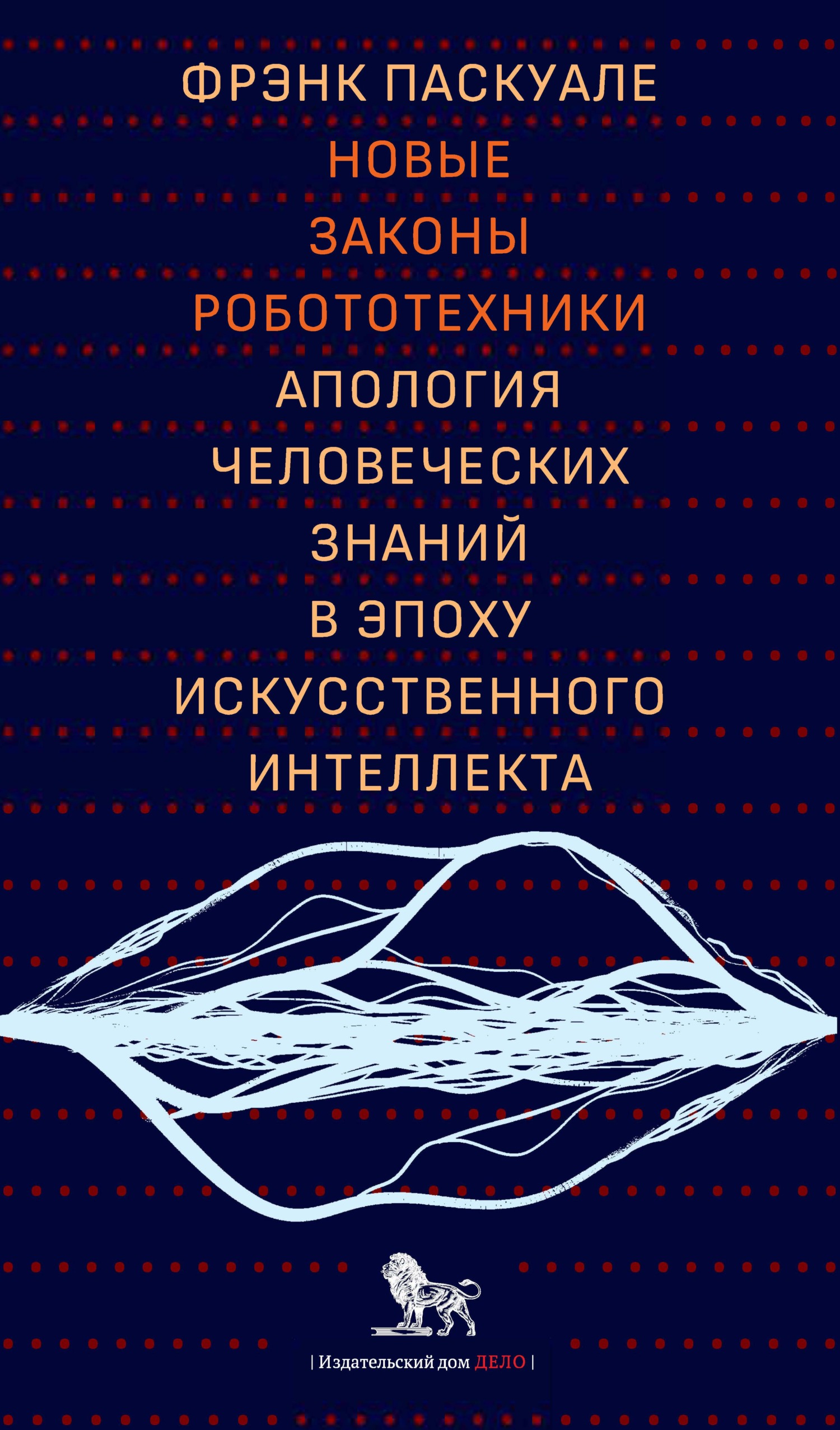Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Родившаяся и проведшая детство и юность в России немецкая писательница Лу Андреас-Саломе (Луиза Густавовна фон Саломе, 1861–1937), благодаря незаурядному уму, блестящей эрудиции и дружеским связям с ярчайшими творческими личностями рубежа XIX–XX веков — Ф. Ницше, Ф. Ведекиндом, Г. Гауптманом, P. М. Рильке, З. Фрейдом и многими другими, — играла заметную роль в духовной жизни Европы. Воспоминания «Прожитое и пережитое» насыщены интереснейшими фактами ее биографии. В однотомник вошла также повесть «Родинка», наполненная глубинным переживанием России и дающая представление о роли первой Родины в творческом развитии писательницы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лу Андреас-Саломе»: