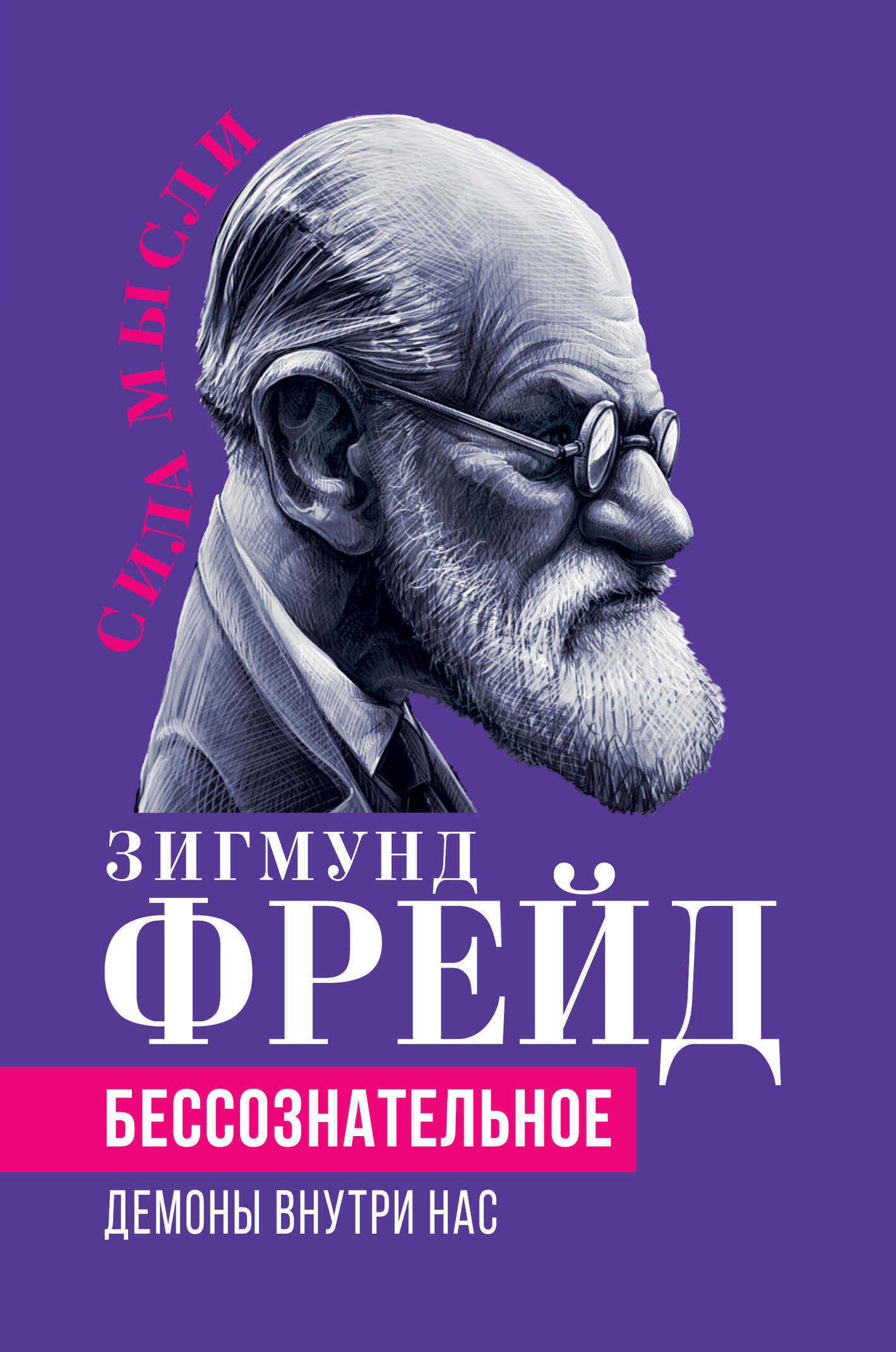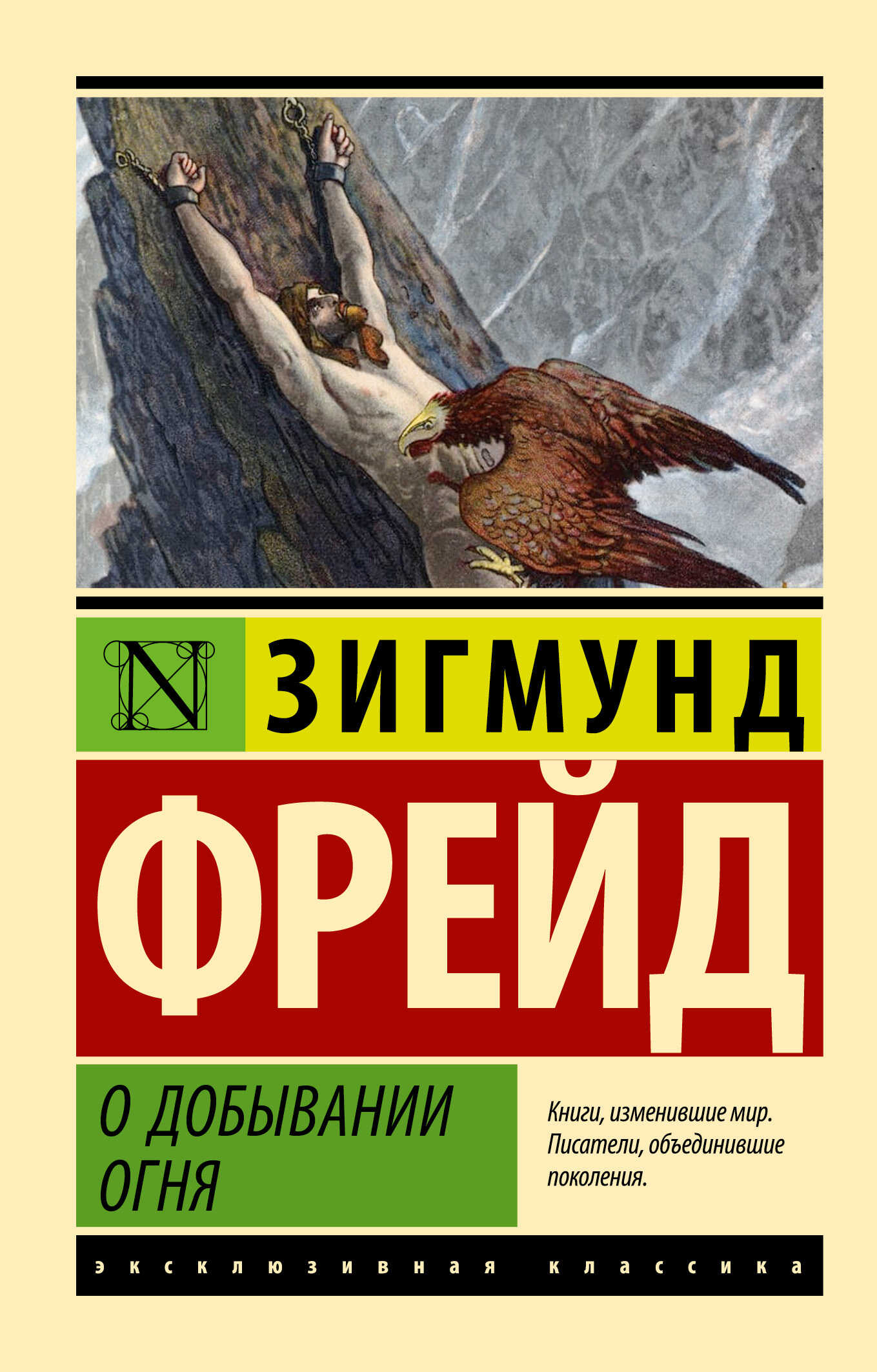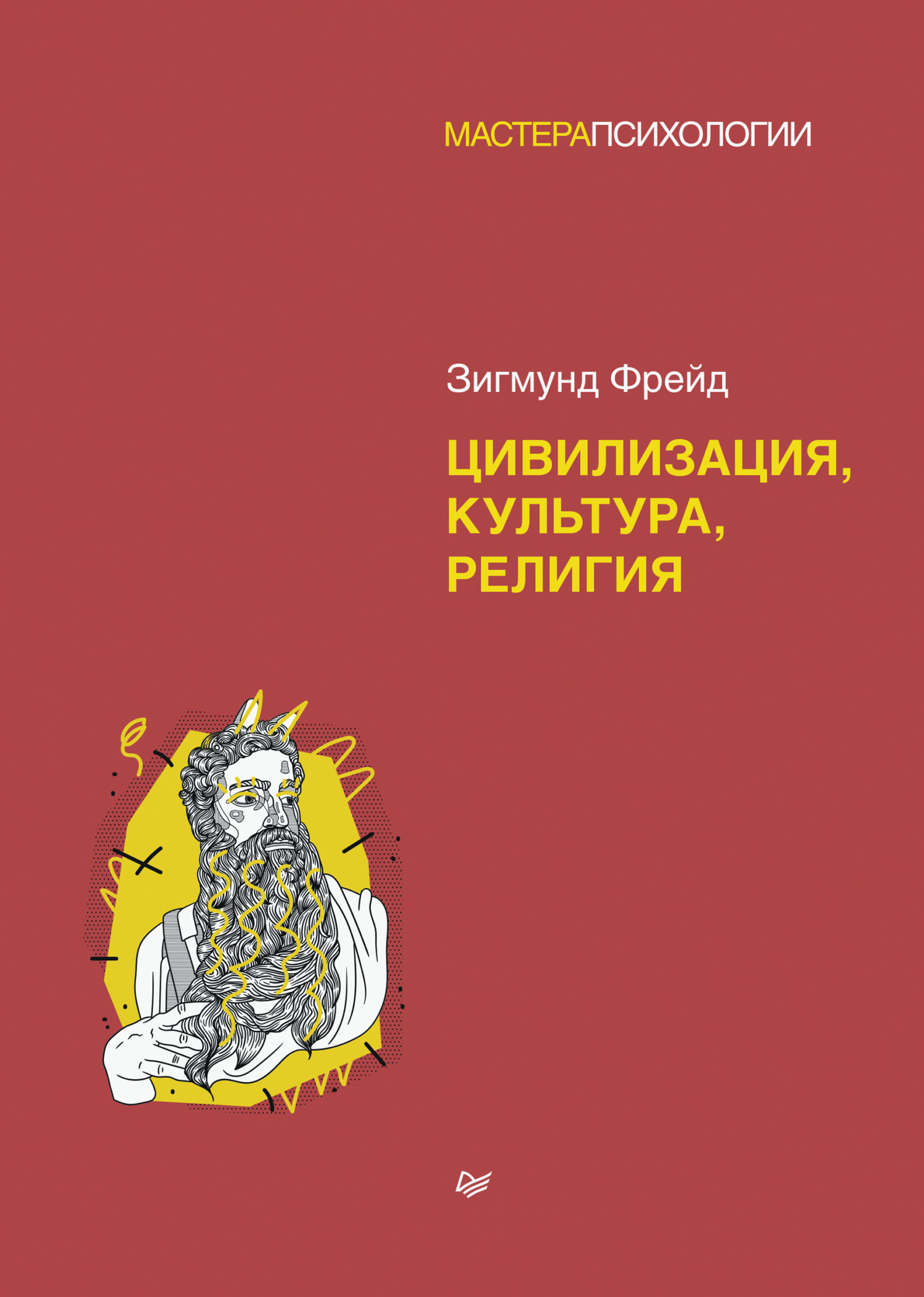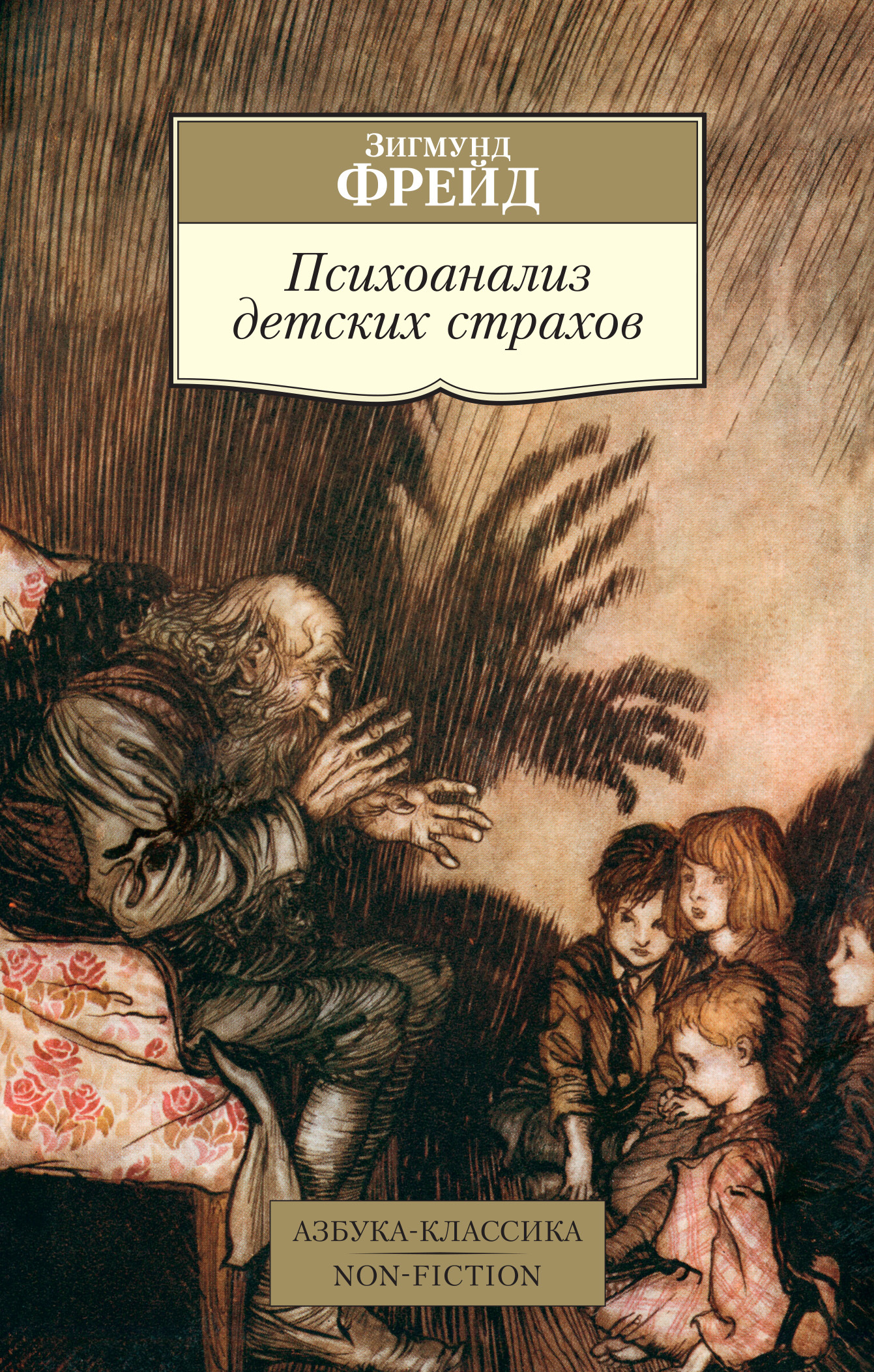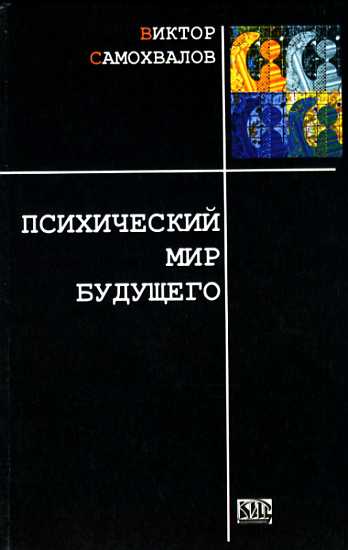Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«В основе всех наших поступков лежат желание стать великим и сексуальное влечение», – писал Зигмунд Фрейд. Основатель психоанализа, он сумел проникнуть в такие глубины человеческой души, до которых не добирался никто. Результатом его изысканий стало описание тайн подсознания, показ тех демонов, которые нашли там прибежище, и о которых зачастую не подозревает сам человек (по словам Фрейда, чем нормальнее кажется человек, тем больше демонов у него внутри). Культура XX – XXI веков во многом основана на фрейдистских представлениях, без них невозможно представить себе и современную общественную мысль. В книгу вошли самые известные работы Зигмунда Фрейда, посвященные этой теме.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Зигмунд Фрейд»: