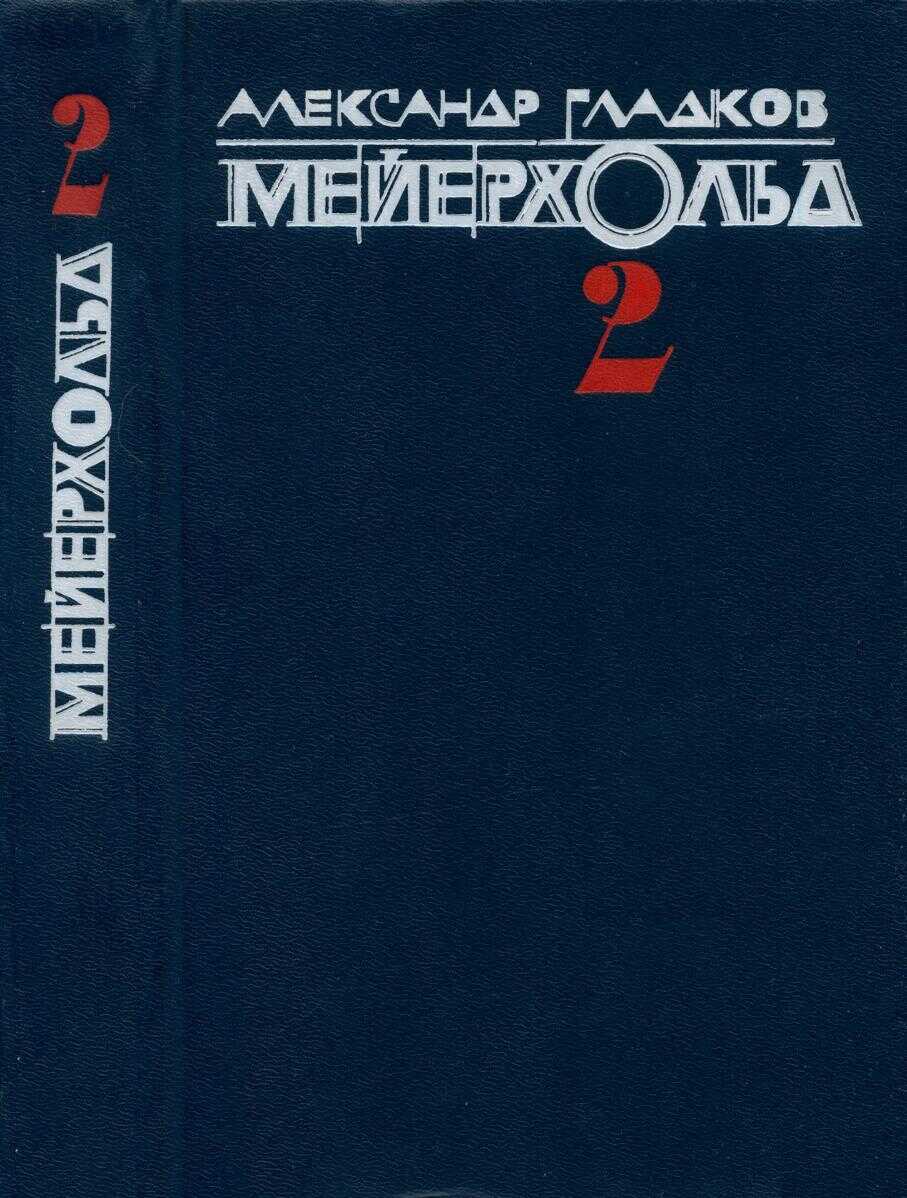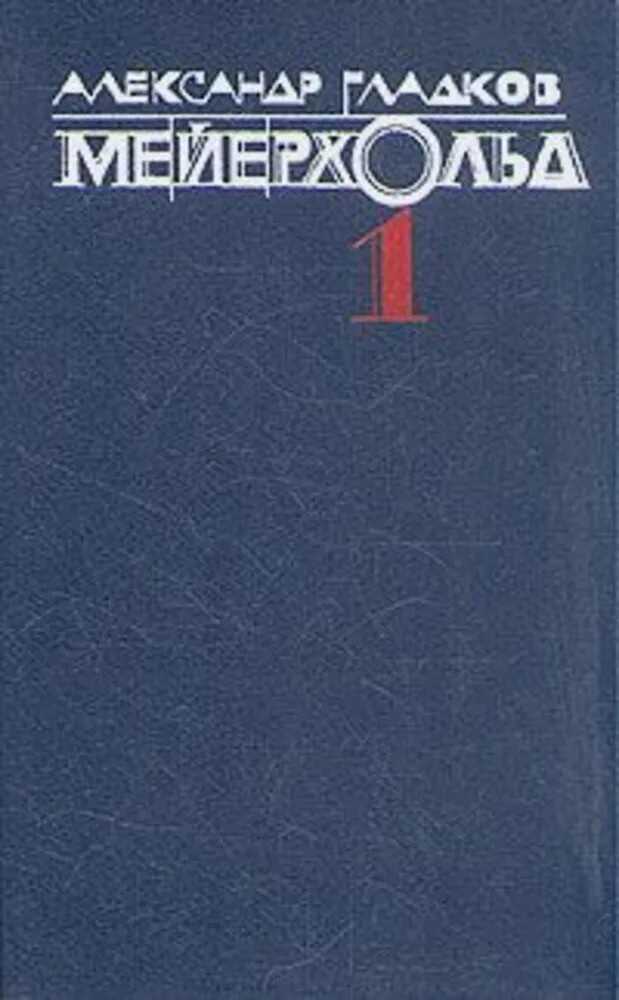Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Во второй том двухтомника А.К. Гладкова «Мейерхольд» вошла книга «Пять лет с Мейерхольдом» и воспоминания о Б. Пастернаке, которые впервые публикуются в полной авторской редакции.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Константинович Гладков»: