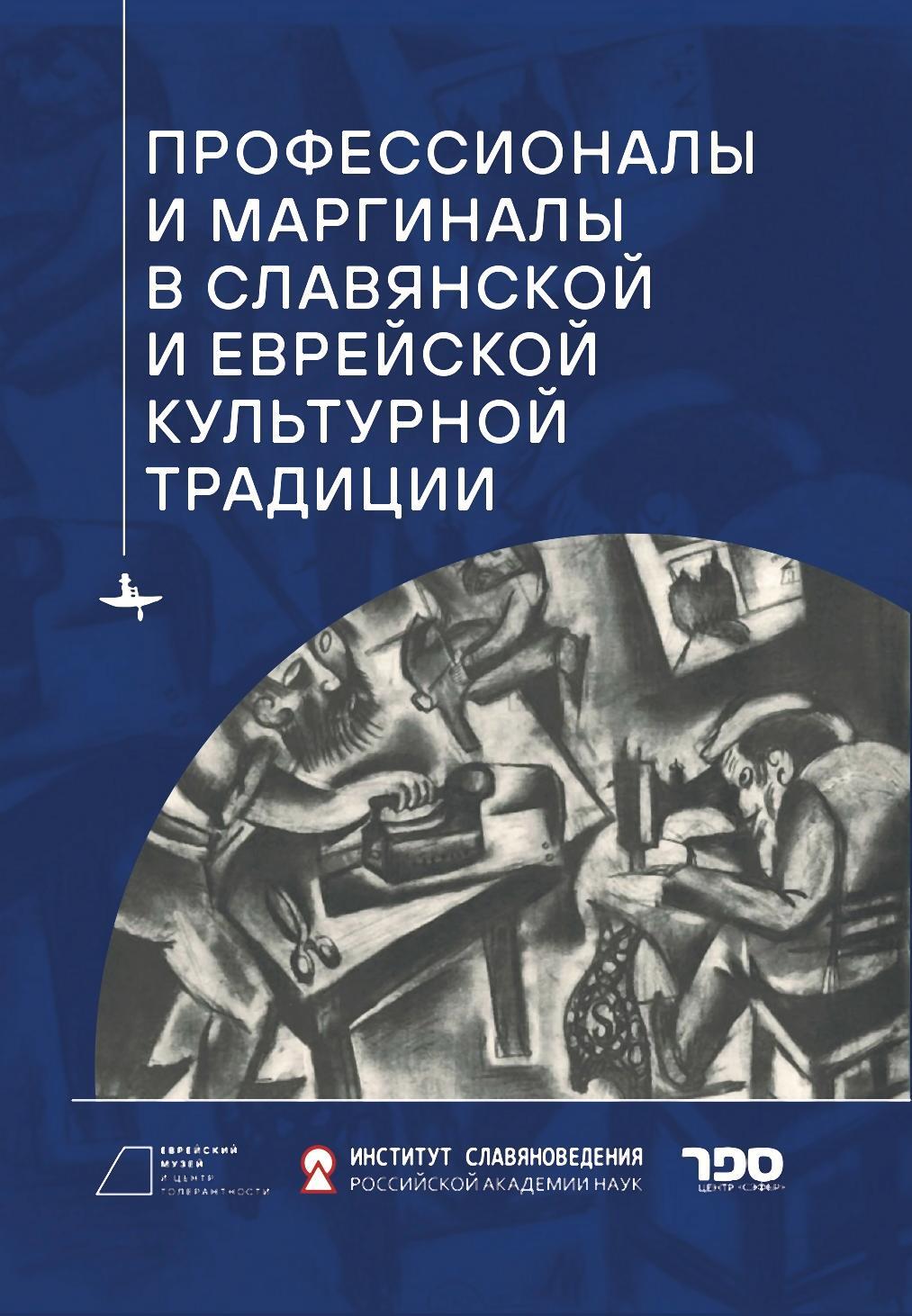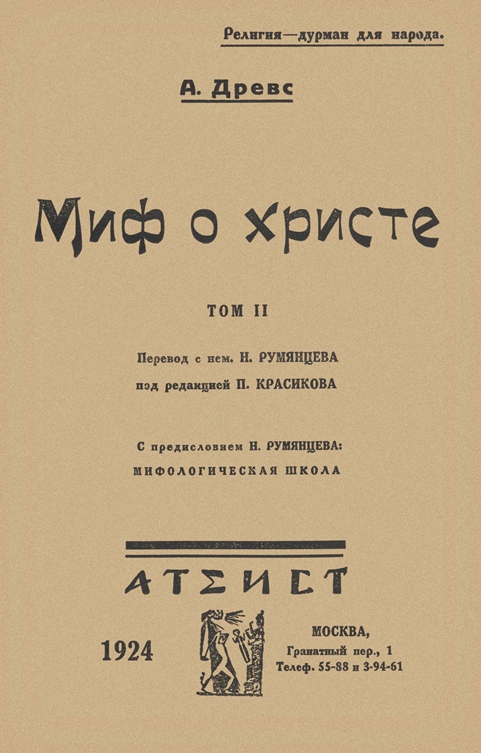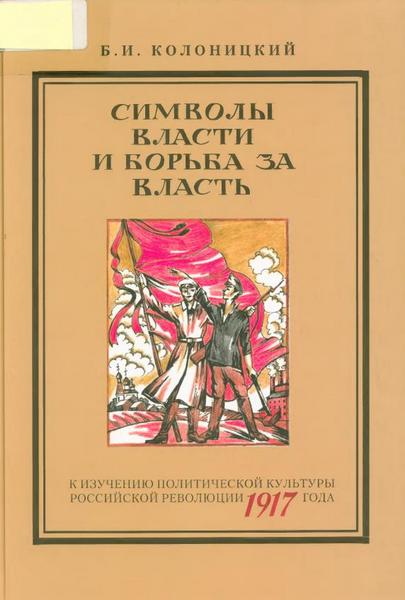Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Действие романа происходит во время Второй мировой войны. Шрайби открывает дверь в защищенный и благополучный мир арабской женщины, роль которой в обществе ограничена ролью жены и матери. По настоянию двух своих сыновей она ищет знания об окружающем мире со всеми его политическими, экономическими и социальными реалиями. Вскоре она начинает развивать и выражать собственное мнение о продолжающейся Второй мировой войне, а также о доминировании и изоляции женщин; и, в конечном итоге, она становится педагогом и активисткой, путешествуя в новые интеллектуальные и эмоциональные сферы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дрисс Шрайби»: