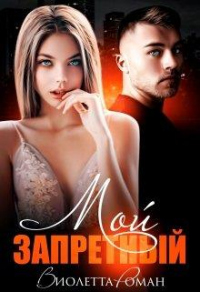Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга, которую вы прочтете, уникальна: в ней собраны воспоминания о жизни, характере, привычках русских царей от Петра I до Александра II, кроме того, здесь же содержится рассказ о некоторых значимых событиях в годы их правления. В первой части вы найдете воспоминания Ивана Брыкина, прожившего 115 лет (1706 – 1821), восемьдесят из которых он был смотрителем царской усадьбы под Москвой, где видел всех российских императоров, правивших в XVIII – начале XIX веков. Во второй части сможете прочитать рассказ А.Г. Орлова о Екатерине II и похищении княжны Таракановой. В третьей части – воспоминания, собранные из писем П.Я. Чаадаева, об эпохе Александра I, о войне 1812 года и тайных обществах в России. В четвертой части вашему вниманию предлагается документальная повесть историка Т.Р. Свиридова о Николае I. Книга снабжена большим количеством иллюстраций, что делает повествование особенно интересным.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Брыкин»: