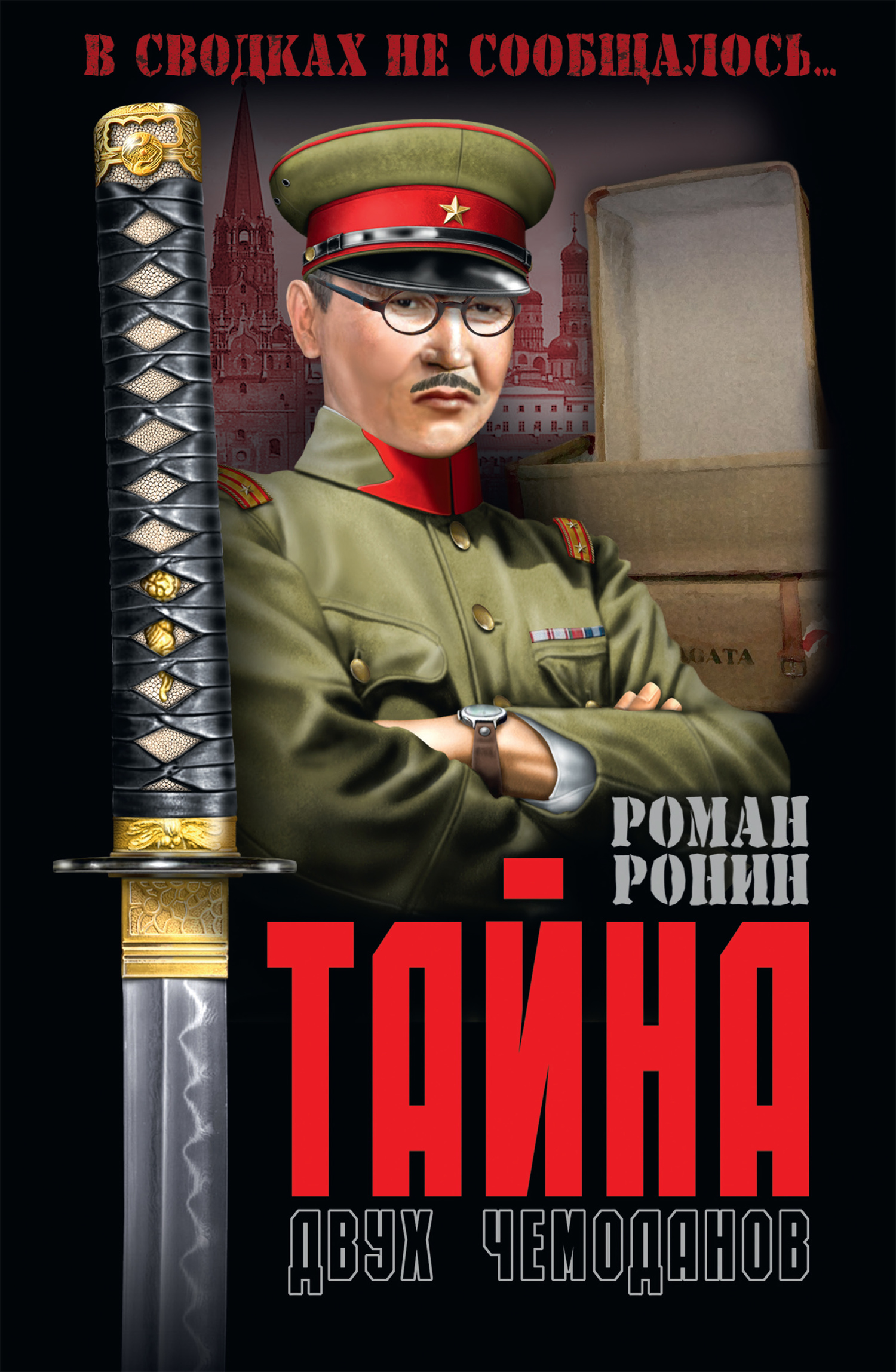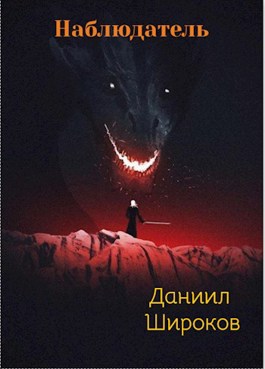Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Лейтенант госбезопасности Арсений Чен (Марейкис), уже знакомый читателю по книге Романа Ронина «Ниндзя с Лубянки», продолжает свое противостояние японской разведке. На этот раз ему пришлось приложить все усилия, чтобы убедить самураев в достоверности получаемой ими дезинформации из Москвы, выкрасть сверхсекретную инструкцию японского военного атташе и миновать провал, едва не случившийся из-за женщин. Любовь и долг, преданность и предательство, идеалы и карьера, шантаж и харакири – все это в новой книге автора, основанной на реальных событиях.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Роман Ронин»: