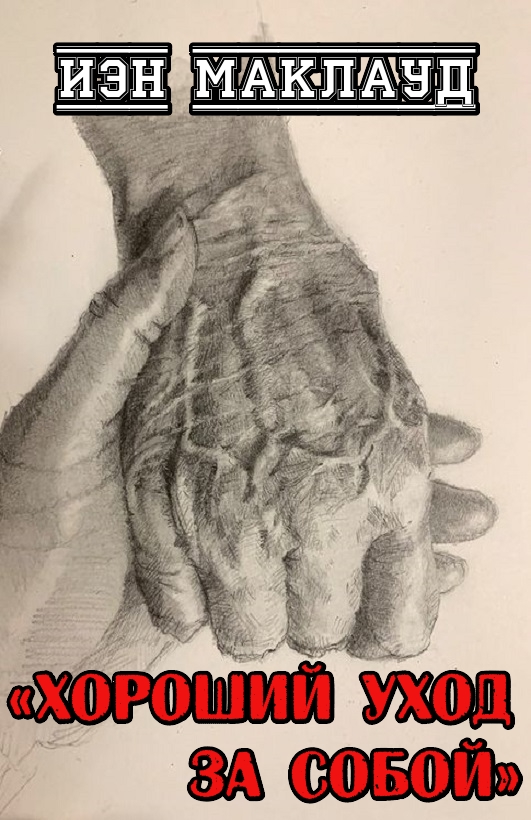Шрифт:
Закладка:
Мартин Скорсезе: ретроспектива – книга, которая должна быть в библиотеке каждого любителя кинематографа. Дело не только в ее герое – легендарном режиссере Мартине Скорсезе, лидере «Нового Голливуда» в 70-е и патриархе мирового кино сейчас, но и в не менее легендарном авторе. Роджер Эберт – культовый кинокритик, первый обладатель Пулитцеровской премии в области художественной критики. Именно Эберт написал первую рецензию на дебютный фильм Скорсезе «Кто стучится в дверь мою?» в 1969 году. С тех самых пор рецензии Эберта, отличающиеся уникальной проницательностью, сопровождали все взлеты и падения Скорсезе.Эберт и Скорсезе оба родились в Нью-Йорке, ходили в католическую школу и были очарованы кино. Возможно, именно эти факторы сыграли важную роль в интуитивном понимании Эбертом ключевых мотивов и идей творчества знаменитого режиссера. Скорсезе и сам признавал, что Эберт был наиболее пристальным и точным аналитиком его работ.В книгу вошли рецензии Роджера Эберта на фильмы Мартина Скорсезе, снятые в период с 1967 по 2008 год, а также интервью и беседы критика и режиссера, в которых они рефлексируют над дилеммой работы в американском кинематографе и жизни с католическим воспитанием – главными темами в судьбах двух величайших представителей кино. Это издание – первая публикация книги Роджера Эберта на русском языке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.