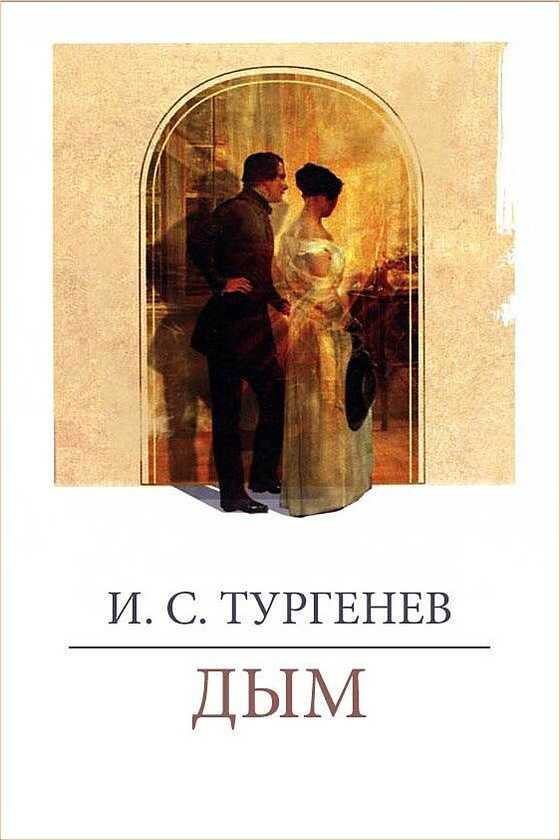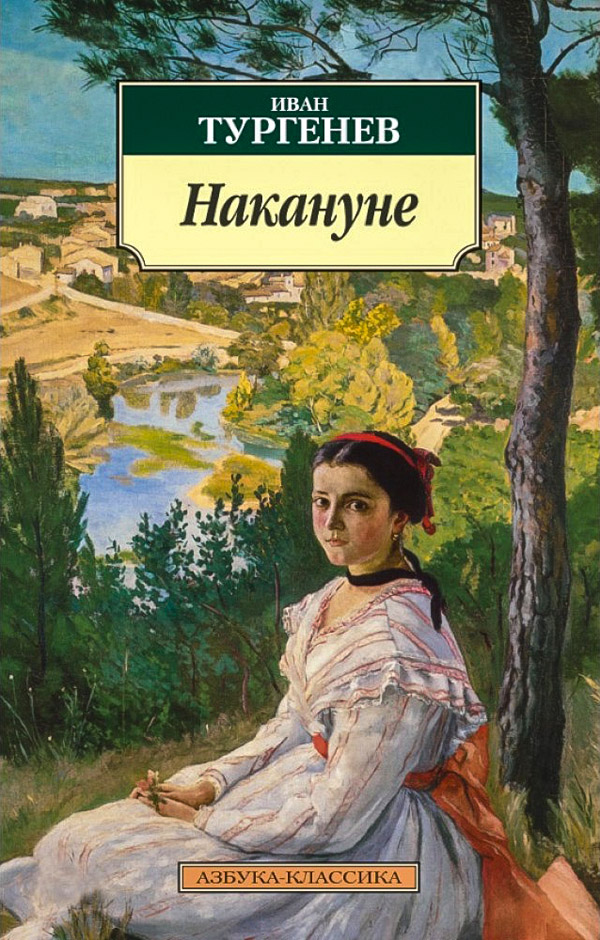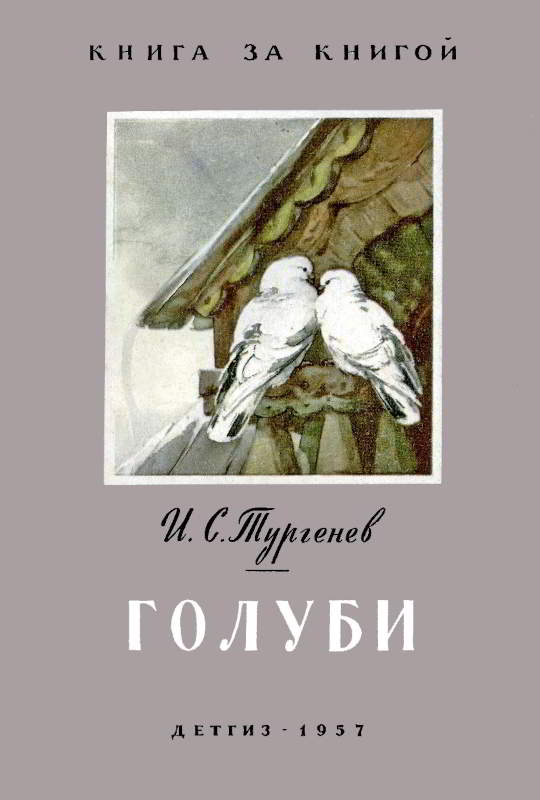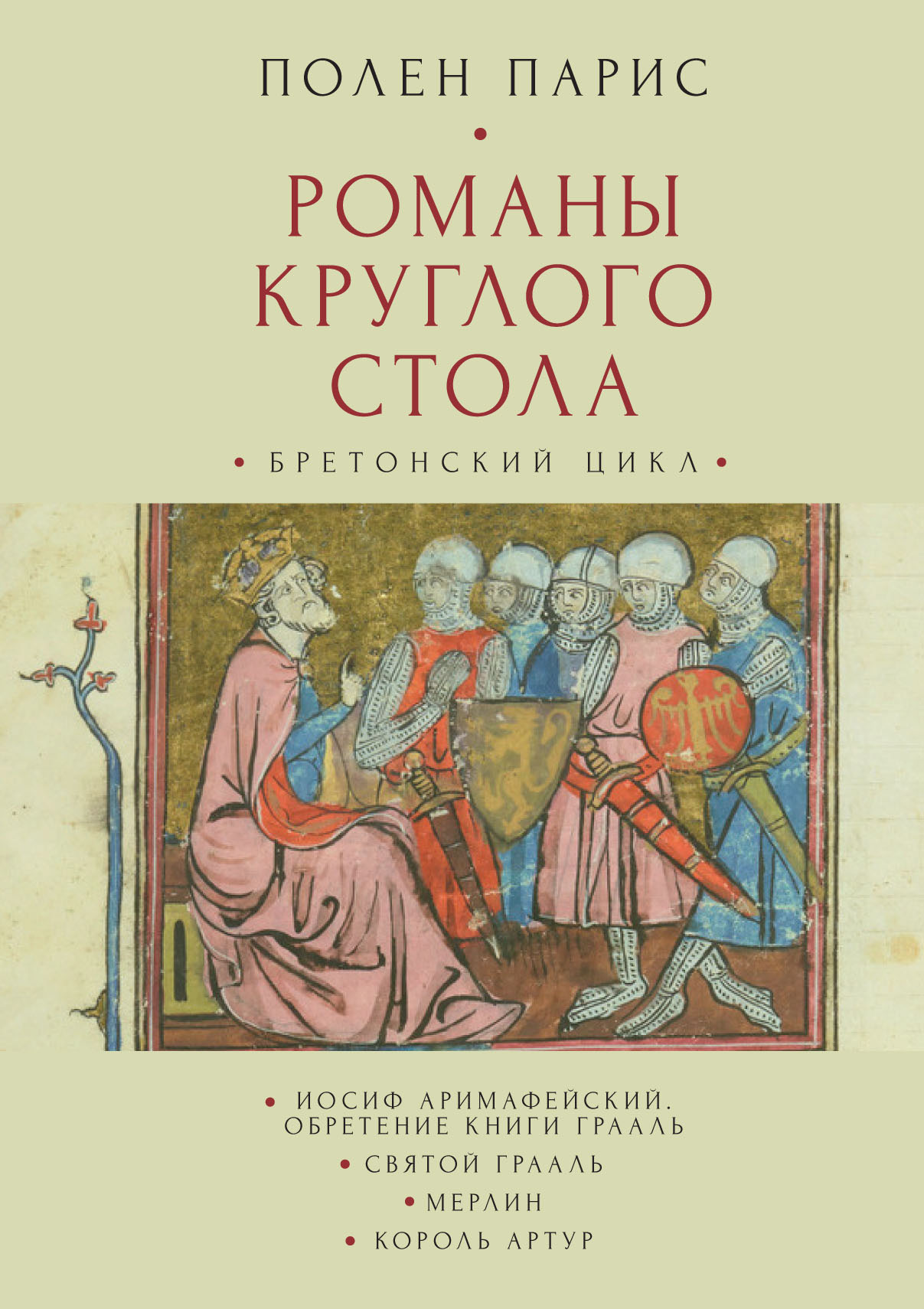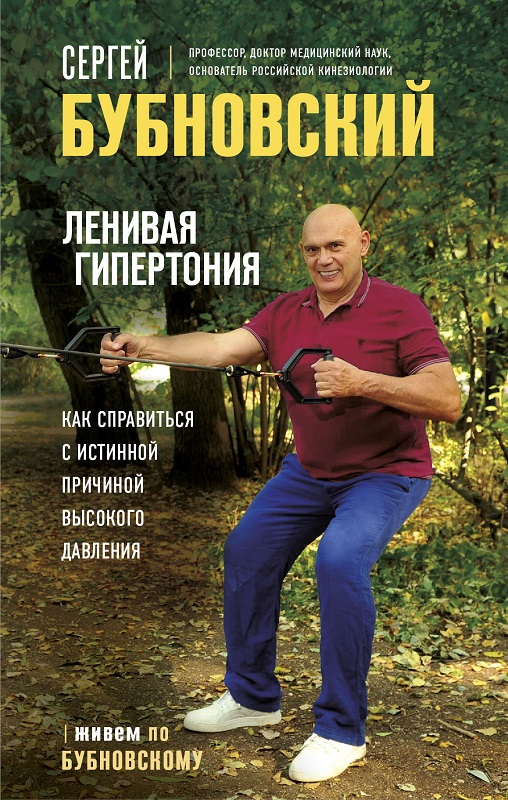Шрифт:
Закладка:
Роман повествует о судьбах четырех молодых людей, которые ищут свое место в мире и свою любовь. Главная героиня, Елена Николаевна Старцева, - дочь богатого помещика, образованная и свободолюбивая девушка, которая не хочет жить по общепринятым правилам. Она влюбляется в болгарина Инсарова, студента Московского университета и революционера, который борется за освобождение своей родины от турецкого ига. Елена готова ради него пожертвовать всем: семьей, благосостоянием, общественным положением.
Другой герой, Андрей Петрович Берсенев, - друг детства Елены, ученый историк, который тайно любит ее и страдает от ее выбора. Он не может принять Инсарова за своего соперника и считает его чужаком и фанатиком. Он пытается убедить Елену отказаться от своих чувств и вернуться в общество.
Третий герой, Павел Яковлевич Шубин, - скульптор и художник, друг Берсенева, который также влюблен в Елену, но безнадежно и беззаветно. Он является образцом легкомысленного и избалованного молодого человека, который не способен на серьезные поступки и отношения. Он шутит над всеми и над собой, но в глубине души он чувствует свою пустоту и одиночество.
Четвертый герой, Дмитрий Николаевич Уваров, - двоюродный брат Елены, офицер гвардии, типичный представитель аристократии, который живет ради удовольствий и развлечений. Он флиртует с Еленой, но не испытывает к ней настоящей любви. Он презирает Инсарова за его простоту и низкое происхождение. Он не понимает и не разделяет идеалов своего времени.
Эти четыре персонажа сталкиваются друг с другом в разных ситуациях: на приемах, на прогулках, на дуэли. Их отношения наполнены страстью, ревностью, дружбой, ненавистью. Их жизни меняются под влиянием событий 1850-х годов: Крымской войны, русско-турецкого конфликта, революционных движений.