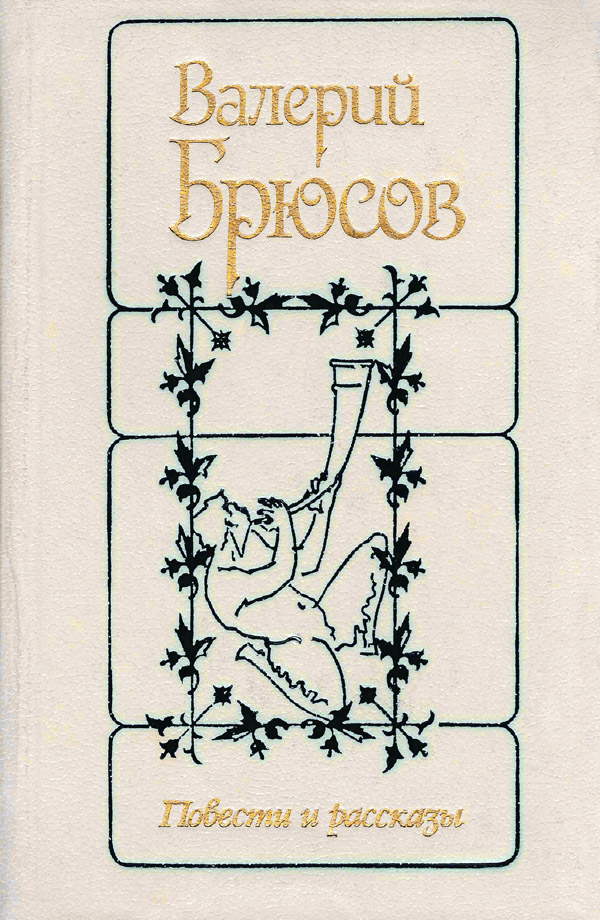Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Приближается таинственный и долгожданный праздник Рождества. По многим верованиям в такую ночь стирается грань между миром живых и мертвых. Именно поэтому в нее так легко встретить как своего ангела, так и напороться на нечистого беса.Традиции веселых колядок и святочных рассказов поддерживали многие русские писатели, в числе которых Достоевский, Чехов, Куприн и Лесков. Не отставали от них и замечательные писательницы Надежда Лухманова и Лидия Чарская.Смешные и поучительные, грустные и трогательные – их рождественские истории не оставят вас равнодушными.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Яковлевич Брюсов»: