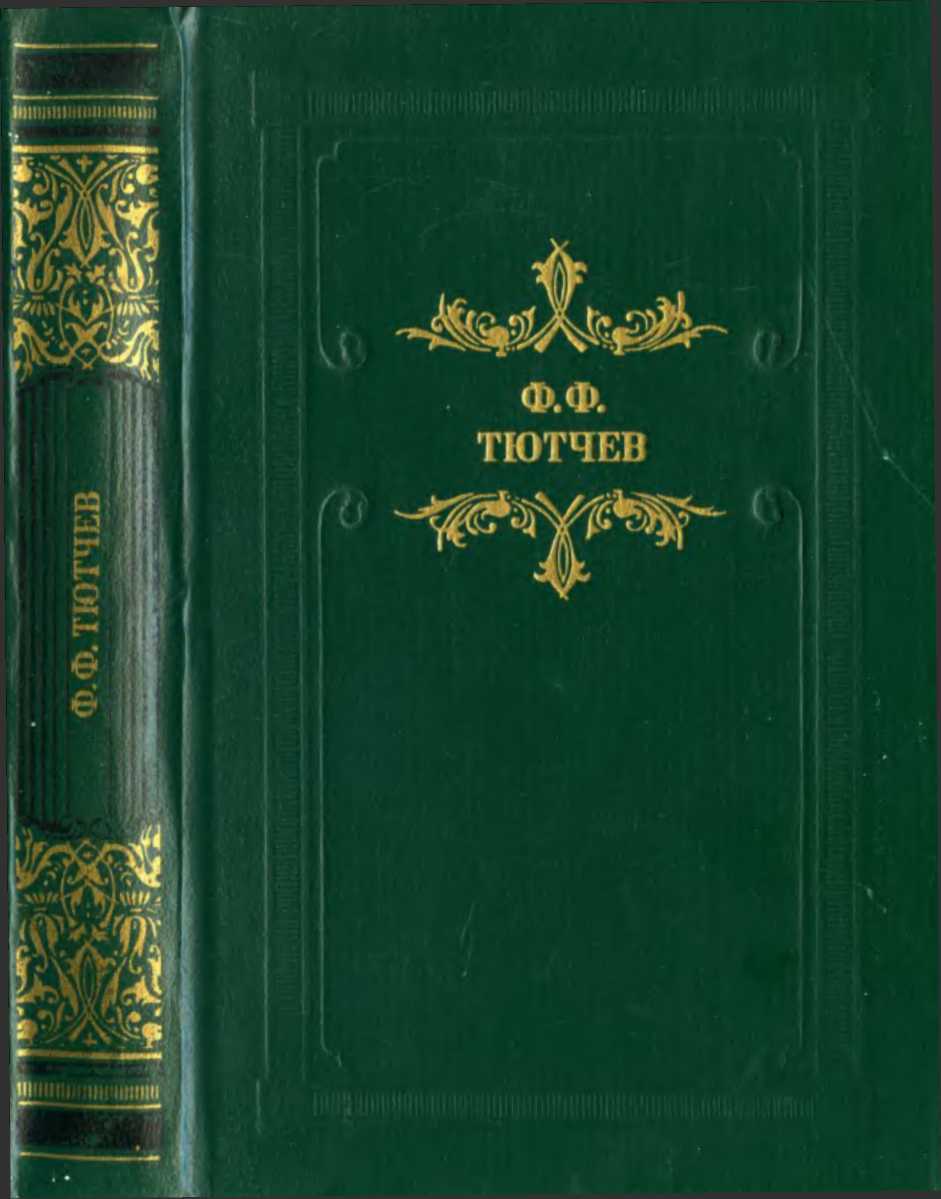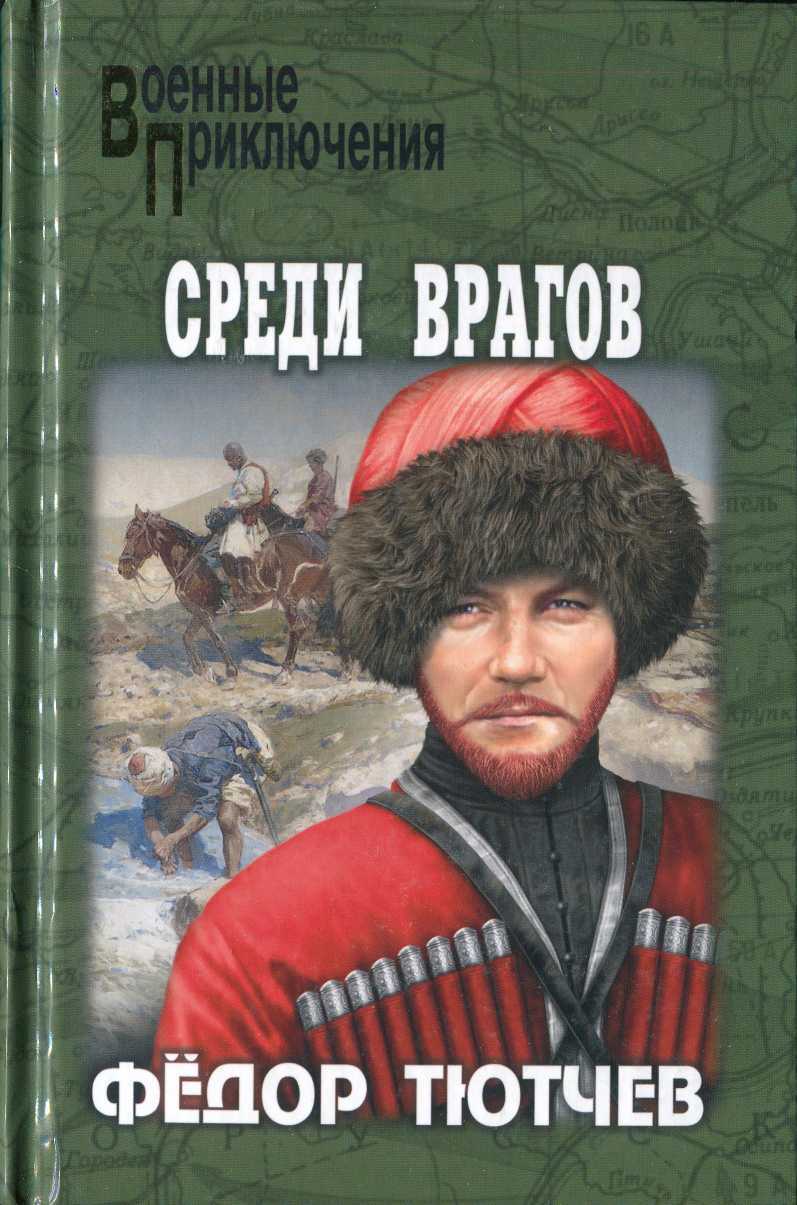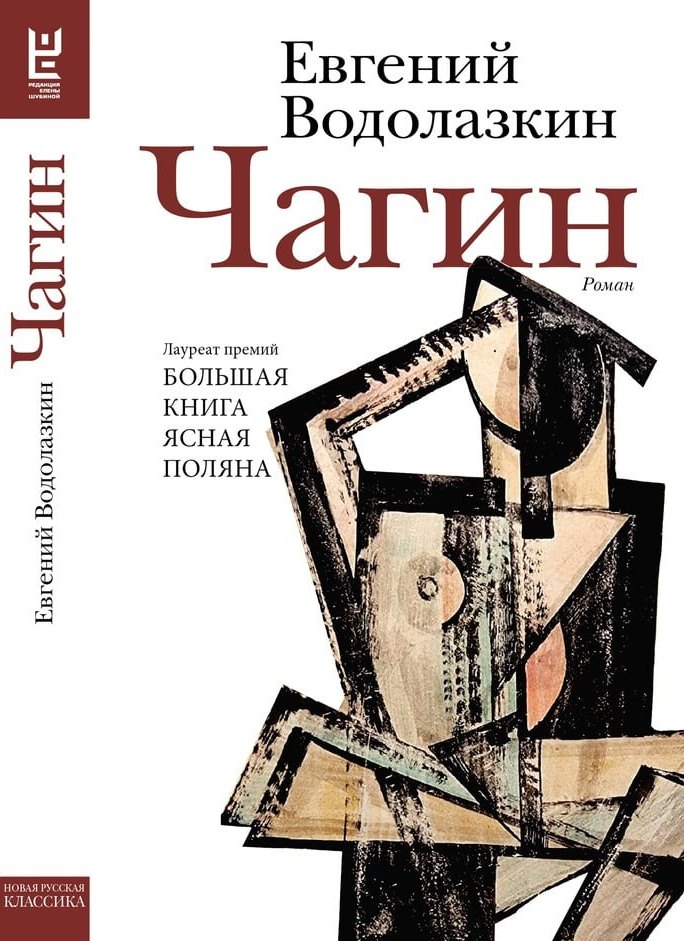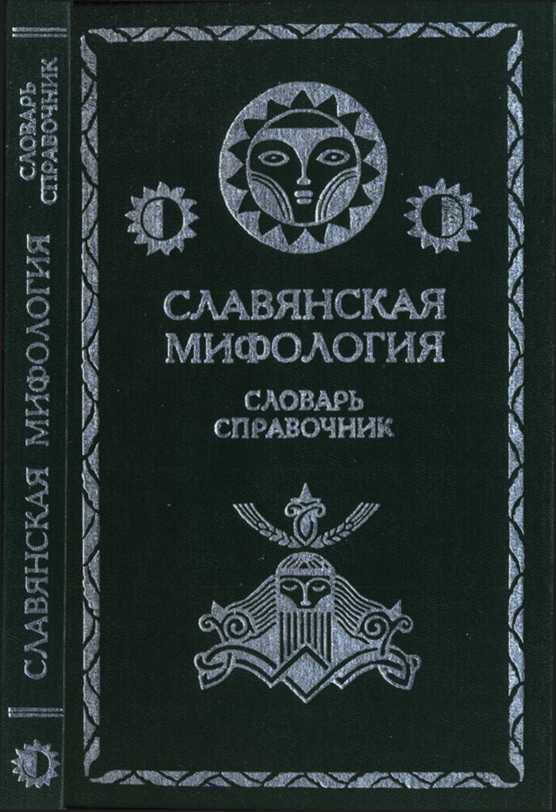Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Федор Федорович Тютчев (1860—1916) — писатель-демократ, сын гениального русского поэта Ф. И. Тютчева. Много лет он отдал военной службе, побывал в отдаленных краях России. Быт окраин, будни пограничной службы, жизнь небогатой интеллигенции в столице правдиво показаны в его повестях и рассказах. Ф. Ф. Тютчев погиб от ранений, полученных на фронте империалистической войны. Его произведения вскоре были преданы незаслуженному забвению.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Фёдор Фёдорович Тютчев»: