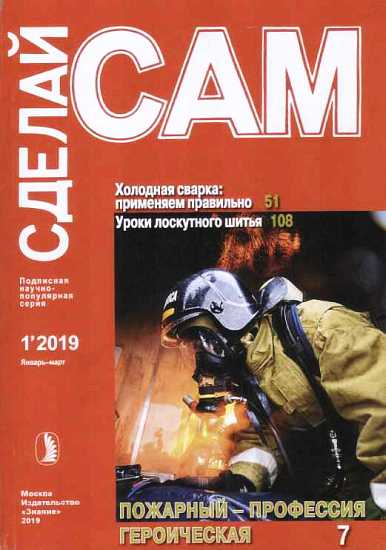Шрифт:
Закладка:
Журналистка The Telegraph и профессиональный комик Вив Гроскоп в сложный жизненный период нашла в великих русских романах не только утешение, но и душеполезные советы, которые помогли ей выбраться из бедственного положения, — и решила описать этот опыт. В «Саморазвитии по Толстому» она на собственном примере и судьбах русских классиков показывает, что даже из самой сложной ситуации можно найти выход с помощью литературы: «Анна Каренина» облегчает кризис идентичности, тургеневская пьеса «Месяц в деревне» помогает пережить несчастную любовь, а «Мастер и Маргарита» — справиться с тяжелейшими обстоятельствами. Лев Толстой, Федор Достоевский, Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь и другие в книге Гроскоп — не бронзовые памятники, а живые люди, которые тоже страдали и сомневались, их обуревали тысячи страстей, но они сумели сохранить достоинство и остались самими собой. «Саморазвитие по Толстому» — занимательная попытка посмотреть со стороны на сюжеты, знакомые каждому русскоязычному читателю со школьной скамьи, и понять, почему мы так любим слова «душа» и «судьба».