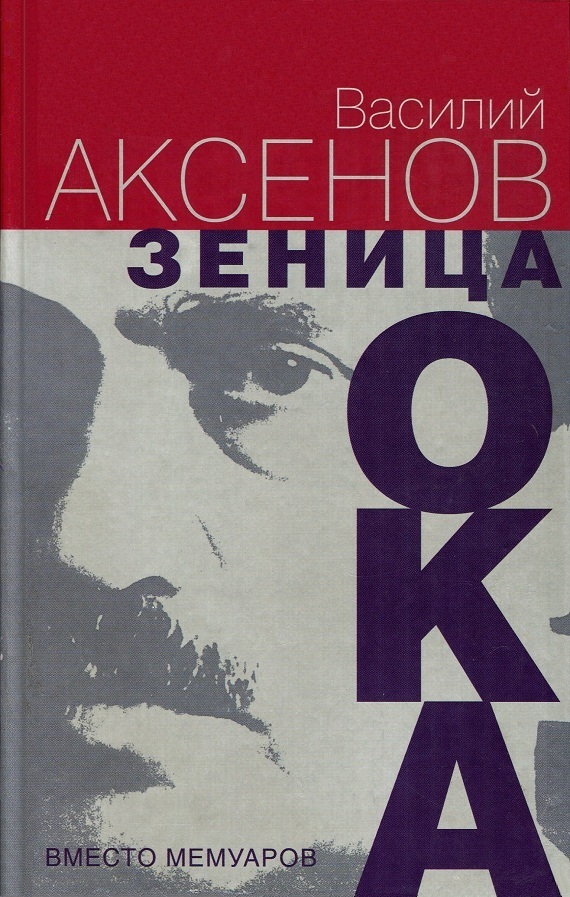Шрифт:
Закладка:
Написать единую краткую историю девяностых сегодня невозможно. Невозможно представить себе единый нарратив: это странное время, пестрое время, о котором смогут рассказать только тысячи голосов. «Мои девяностые» — это книга, в которую вошли эссе и интервью писателей, поэтов, философов, публицистов, которые публиковались в журнале «Сеанс». Составитель — Любовь Аркус. Среди авторов: Дмитрий Пригов и Дмитрий Быков, Полина Барскова и Мария Степанова, Александр Тимофеевский и Константин Мурзенко, Екатерина Шульман и Юрий Сапрыкин, Дмитрий Галковский и Людмила Петрушевская. Эти тексты появились в разное время: одни — в девяностые, другие — в нулевые и в самом начале двадцатых XXI века. Каждый из них — свой особый взгляд на эпоху перемен.