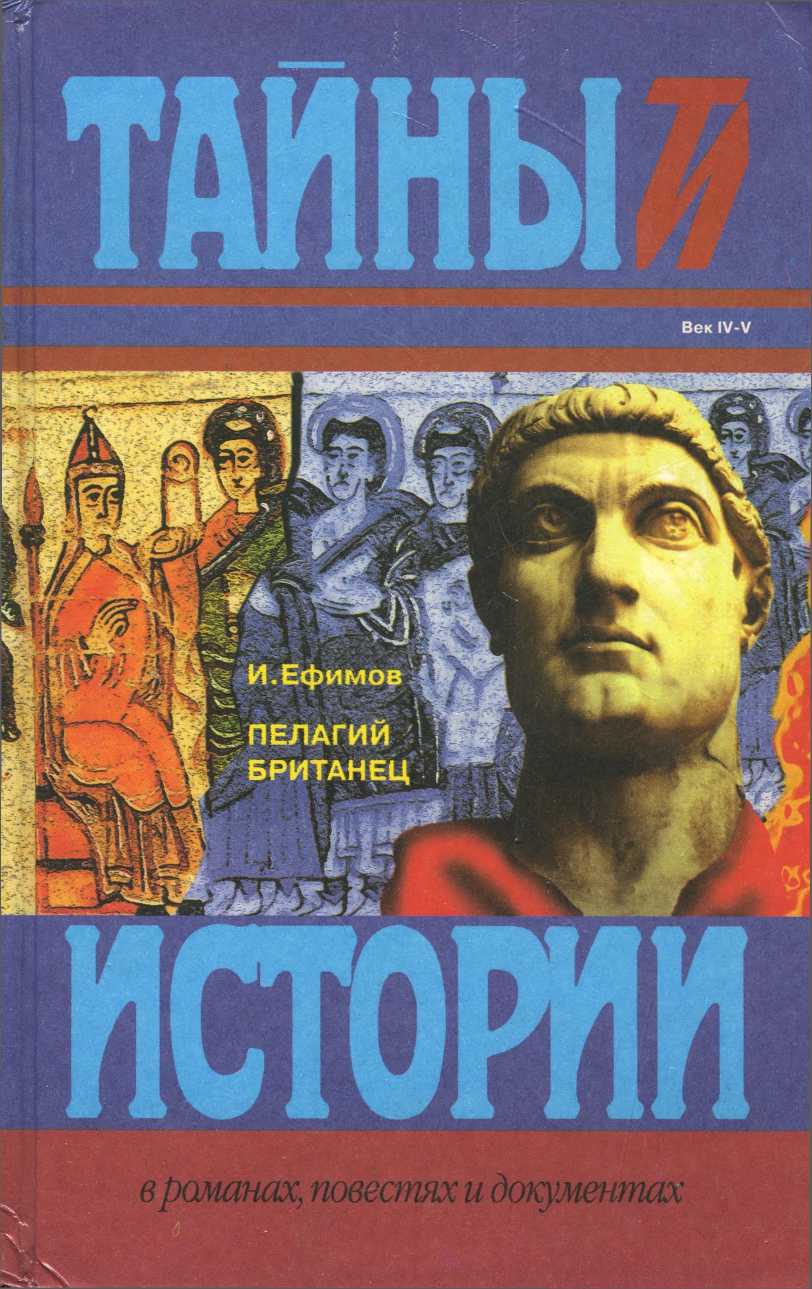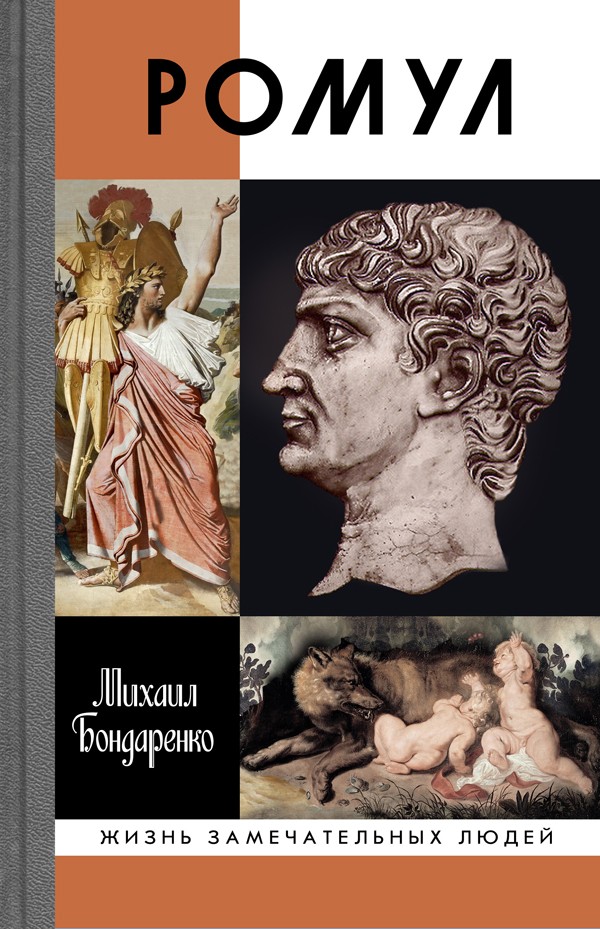Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Действие исторического романа И. М. Ефимова происходит в Древнем Риме периода упадка. Автор рассказывает о походах варваров, о проблемах христианства V века, о монахе Пелагии Британце и его учении, которое было объявлено еретическим.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Маркович Ефимов»: