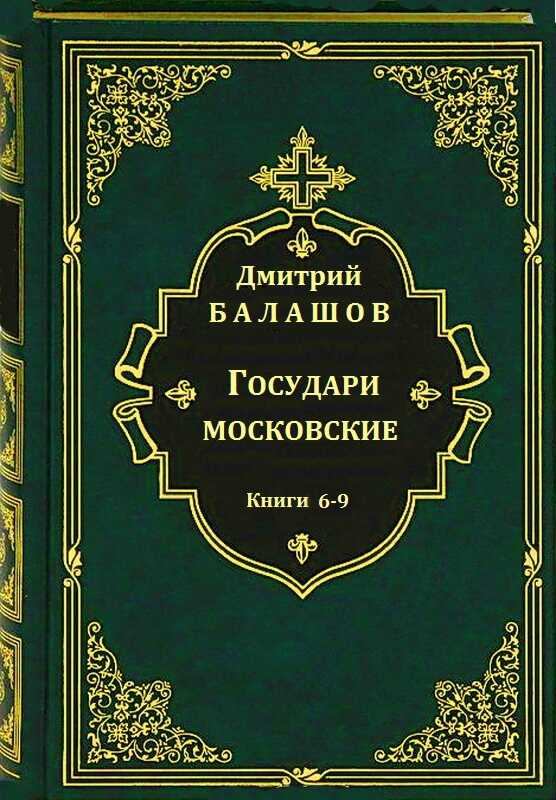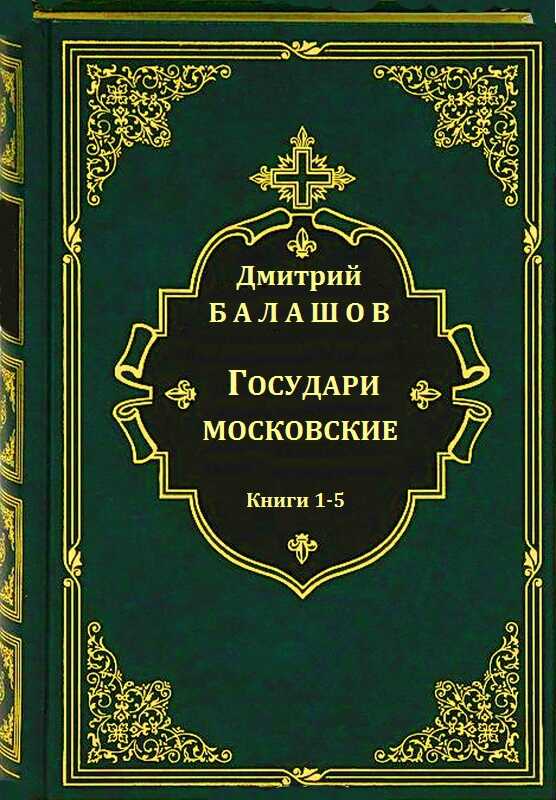Шрифт:
Закладка:
В романе «Ветер времени» – события бурного XIV века, времени подъема Московской Руси, ее борьбы с татаро-монголами, образ юного князя Дмитрия Ивановича, будущего победителя на Куликовом поле. Роман отмечают глубокий историзм, яркость повествования, драматизм интриги. "Отречение" Это шестой роман цикла «Государи московские». В нем повествуется о подчинении Москве Суздальско-Нижегородского и Тверского княжеств, о борьбе с Литвой в период, когда Русь начинает превращаться в Россию и выходит на арену мировой истории. Роман «Святая Русь» очередной роман из многотомной серии «Государи московские». События представляемых здесь читателю начинаются с 1375 года, и включают в себя такие события, как Куликово поле, набег Тохтамыша на Москву и т.д. «Воля и власть» продолжает известный цикл «Государи московские» и повествует о событиях первой половины XV века: времени княжения в Москве Василия I, сына Дмитрия Донского, его борьбе с Великим княжеством Литовским и монголо-татарами. Роман "Юрий" в данный сборник не включён, так как роман не закончен.
Содержание: 6. Ветер времени 7. Отречение 8. Святая Русь 9. Воля и власть