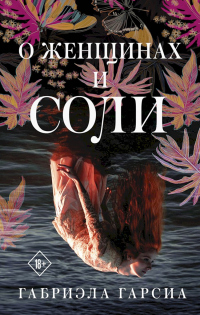Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Портрет трех поколений женщин, написанный на фоне стремительно меняющейся истории и географии. От Кубы до Майами, с девятнадцатого века и до наших дней они несут бремя памяти, огонь гнева и пепел разочарований.Мария Изабель, Джанетт, Ана, Кармен, Глория — пять женщин, которые рассказывают свои истории, не оглядываясь на тех, кто хочет заставить их замолчать.Пять женщин, чьи голоса с оглушительной силой обрушиваются на жизнь, которой они отказываются подчиняться.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Габриэла Гарсиа»: