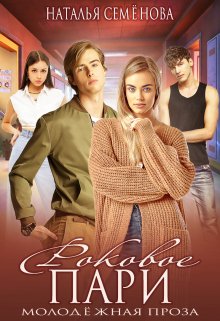Шрифт:
Закладка:
Ох уж эти сказки. Ох уж эти Сказочники!.. В стародавние времена люди не знали добрых сказок. Сказки издревле были мрачными и пугающими историями о смерти, насилии, черном колдовстве. В них незадачливых властоимцев варили заживо, детишек морили голодом, а сиротам отрубали конечности. И даже Русалочка Х. К. Андерсена испила кровь морской ведьмы, прежде чем лишиться языка и отправиться на сушу к любимому принцу. Сказки – это первые истории ужасов… И теперь они возвращаются к вам такими, какими всегда были и должны быть! В антологии «Черные сказки» собраны как современные вариации знаменитых сказок о Шамаханской царице, Красной Шапочке и Русалке, так и совершенно новые, оригинальные и неповторимые истории, основанные на фольклоре разных стран и народов. Плоды буйной фантазии таких авторов, как Олег Кожин, Александр Матюхин, Майк Гелприн, Дмитрий Тихонов, Оксана Ветловская и многих, многих других собрал в одну большую и очень страшную коллекцию известный писатель и составитель хоррор-антологий М. С. Парфенов. Здесь нет места светлому волшебству, ведь это – сказки для взрослых. Черные, черные сказки…