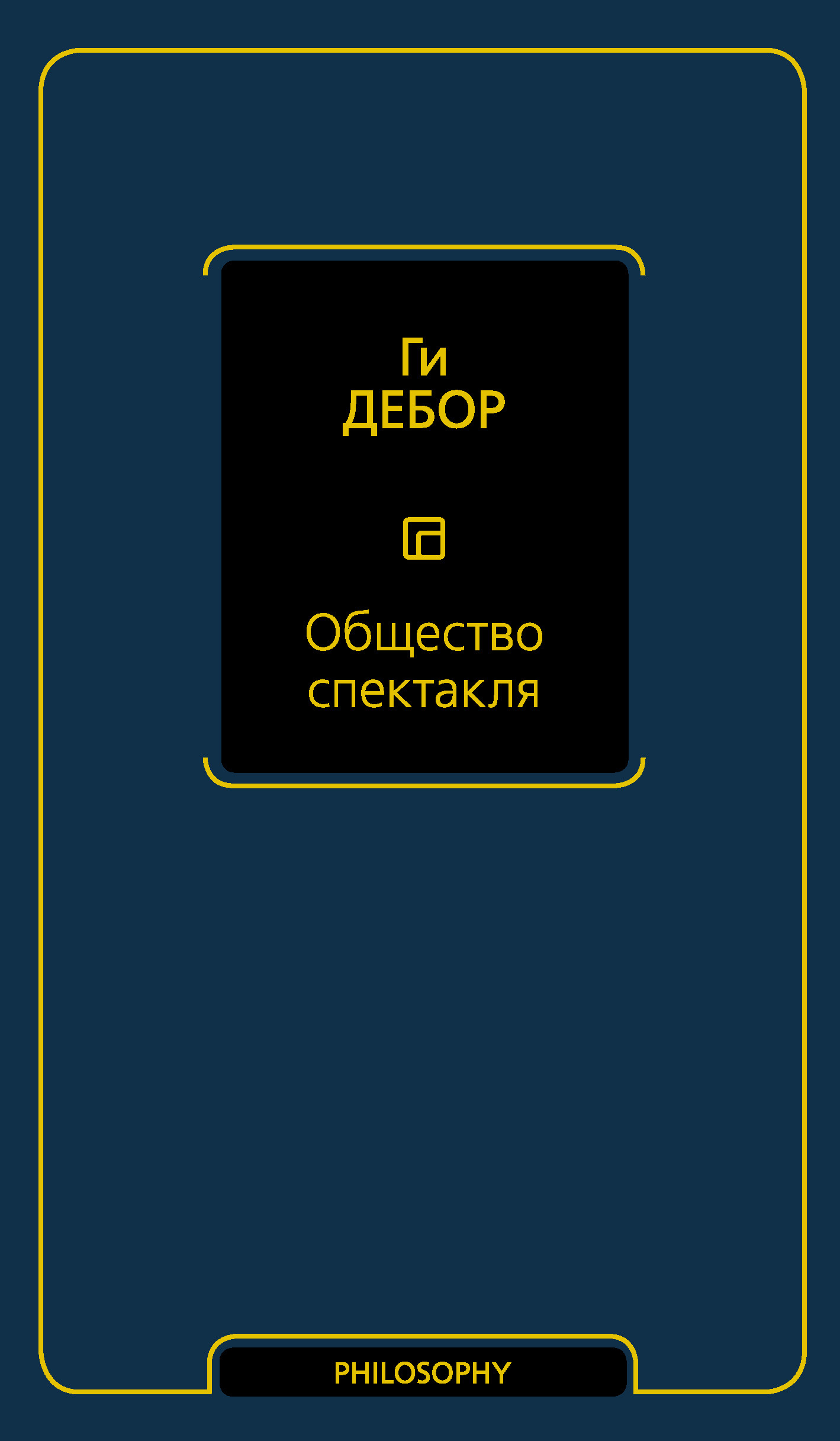Шрифт:
Закладка:
Марк Захаров еще при жизни стал человеком-легендой. Он был бесконечно одарен, обладал неиссякаемой творческой энергией, по праву заняв свое особое место в истории отечественного театра и кинематографа. На его фильмах и спектаклях, которые уже стали классикой, выросло несколько поколений зрителей.Создатель, руководитель и идейный вдохновитель легендарного театра «Ленком», Захаров обладал даром находить и взращивать таланты, зажигать на театральном и кино небосклоне новые звезды. Учениками мастера в разные годы были Инна Чурикова, Олег Янковский, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и многие другие артисты.Книга «Театральные фантазии на тему… Мысли благие и зловредные» – последние воспоминания великого мастера.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.